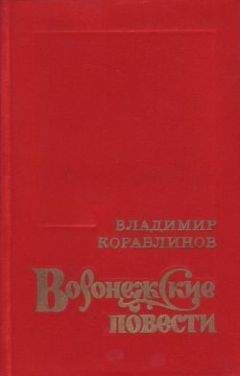8. Но опасался быть с ними явно: ну-ка схватят да к Рябцу! Дворянскому телу – ни сабля, ни стрела не страшны, палаческий кнут страшен. А тут на Воронеже грамотка объявилась, чтоб воеводу и голов, и всех больших костей побить и пограбить – всего тридцать четыре двора. Ее, грамотку, думный дьяк не писал, скорый гонец не вез, ее, ежели правду сказать, тут, недалече от Воронежа, составили, а именно: в сельце Устье, на чаплыгинском подворье, рукой известного нам беглого иеромонаха Пигасия. Сумнительна была, да что! Ведь говорится ж: не гляди, что не поп, гляди, что грива поповская! Писано красно – как веры не дать? По стрелецким, по казачьим дворам прочли, вовсе народ закипел. Тогда стал Богдан крикунов к себе в гости звать, тайно пошла у них беседа. Человек с двадцать и больше хаживали – из стрельцов, из казаков, и из посадских многие, и всякого народу бывало. Сюда же и Чаплыгин прибился. Ему ко времени тому Грязной и вовсе поперек глотки стал: проведав, что чуть ли не с чаплыгинского двора ушла на Москву челобитня, в отделку осатанел, остервенился; повинностями да поборами многими такую тесноту сделал, что боярскому сыну хоть в петлю, так впору. Чаплыгин тайно привез к Богдану Пигасия, и тот еще листов десять написал – пошла грамота гулять! Она и в кабаке, она и на торгу, она и на стенах градских, где мужики плотничали. А один раз – даже, если сказать, не поверите – на воеводском дворе к воротам прилепилась, право! Лихобритов сказал: «Это все Гараська, собачий сын, мутит! Он как с Москвы пришел, так из народа не вылазит, подлец, с худыми речами». Грязной сказал: «Что ж ты ты сопли распустил? Кудеяра взять не можешь, так по крайности хоть Гараську хватай, дьявола!» – «Да поди-ка схвати, – усмехнулся Лихобритов, – круг него завсегда людей – станица, не дадут ведь». – «Так вели Толмачеву, чтоб со стрельцами взял!» Лихобритов только рукой махнул: «Куды-де, батюшка, стрельцы! Они по нонешнему времю и есть первые заводчики!»
9. Лихобритов правду сказал: Герасима взять было трудно. Он по вся дни на многолюдстве что в котле – народу стена, поди сунься! Раз так-то разлетелись было лихобритовские молодцы, да и не рады, насилу ноги унесли. Иное дело – в доме смутьяна взять бы, – так дом-то где? Как с Москвы прибежал казак, одну лишь ночку в своей избе перебыл, а после того где ночевал – неведомо. Сам Лихобритов со своими шишами не раз, в мужицкие сермяги убравшись, тайно выглядывали Герасима возле торга, на посадах, да что! – как из-под земли вырастал, смутьян, во многолюдстве, да и пропадал так же. А тревожил-таки народ: уже дворяне да подьячие да и торговые люди опасались ходить в одиночку, чтоб не побили: такая шатость сделалась в народе. Дальше – больше – и плотники со стен послезали, заткнули топоры за пояса; им десятники кричат: «Куда? Воротитеся, черти посконные!» А они смеются лишь, не идут. На торгу же людей стало невпроворот, из ближних деревень и не надо б ехать, так ехали: из Боровой, из Собакиной, из Ряднушки, даже из Орлова-городка да из лесной деревушки Углянской, – всем, видишь, на Воронеже дело оказалося! Так же и стрельцы, и казаки в шатость пришли, перестали начальников слушать: казачий голова Семен Позняков велит в круг собраться, так не идут же. «Нам-де нынче в вашем кругу делать нечего, у нас-де нынче свой круг!» А стрельцы еще лучше того сказали Петру Толмачеву: «Худо, что тебя ногаи тогда не побили, ну, дай срок, будешь и без ногаев побит!» Про такие дерзкие слова Толмачев с Позняковым донесли Грязному. Тот закипел было, да скоро притих, сделался смирный. Что ж так? А вот слушайте.
10. Жили на Воронеже среди добрых людей два христопродавца: стрелец Гаврила Волуйский да полковой казак Григорий Рублев, оба замотаи, пьянюги. Как зачался в городе шум, они в первых крикунах ходили. И повадились за Герасимом таскаться – куда он, и они туда же. Так и у Конинского в доме были, и все разговоры слушали – кого побить, и другое разное. А там речи уже пошли нешуточные, а именно: в какой день начать да кто за что примется – кто за съезжую, кто за губную, кто за воеводин двор. Так же и тюрьму порешили разбить, колодников-заточников выпустить. Это все в субботу вечером было, двадцать четвертого числа июня месяца. До позднего часу сидели и приговорили начинать завтрашний день. Тоже и с кого начинать. Тут не без смеху стало: взялись боярские дети Конинский с Чаплыгиным друг дружку за груди трясти; один кричит: «Зачинать с Захарки Кошкина да с Прибытковых!» А другой – чтоб перво-наперво громить романовскую винокурню, из сельца Устья боярских холопей вышибать. Тогда Герасим сказал: «Совестно вам, господа! Ведь мы за всех желаем порадеть, а вы за себя лишь. Что ж ты, Чаплыгин, про Олешку-то Терновского забыл? Он же, горюн, за нашу правду в тюрьме-то. Так слухайте ж, господа: сперва мы тюрьму разобьем, горемык выпустим, а после того пойдем на съезжую, а после того видно будет». И он приказал, кому и в коем месте быть, и когда. С тем разошлись. И как вышли со двора, откуда ни возьмись – тройка и мужики в телеге. Герасим прыгнул к ним на скаку – потуда его и видали. Его и прежде не раз этак-то на тройках подхватывали.
11. Тогда Григорий Рублев говорит Волуйскому: «Ох, Гаврюша, как бы нам с тобой, голубь, не вклепаться!» – «Да я, брат, и сам так-то думаю, да что ж делать? Не пойдем, видно, завтра, куда Гараська велел». – «Да это что – не пойдем! – сказал Рублев. – Хотя и не пойдем, так все одно отвечать придется: приметили, поди, нас лихобритовские-то». – «Ну, тогда вот чего, – сказал Волуйский, – побежим скажем воеводе, про что знаем». Крадучись, тайно, садами пошли они к воеводе. У градских ворот их стража не пускает, спрашивает – кто да зачем. Рублев не растерялся, сказал, что к попу-де, что бабу схватило животом, соборовать надобно. Пропустили их, христопродавцев. Но они смалодушествовали: ну как кто подглядит из кривушинских, что они к воеводе ходили, – убьют ведь. Так они к Сергию, к троицкому попу постучали, чтоб ему сказать про все. А тот уже было спать лег. Но, услыхав про завтрашнее, и сон позабыл: подобрал полукафтанье да скорей – на воеводский двор. Эти же доносчики стоят ночью возле поповой избы, лают попа: «Вишь, долгогривой! Хотя бы алтынишко подарил!» В последствии времени получили-таки, июды, по целковому.
12. От поповых вестей воевода, срамно сказать, в нужное место побежал: малодушен, злодей, оказался, робок. На ту пору, спасибо, Толмачев с Лихобритовым случились, постыдили его маленько; тотчас за Позняковым послали, за пятидесятниками. Пришли ратные начальники, стали всеми думать – как быть? Грязной, видя округ себя силу, осмелел, забыл, куда бегал, зачал ратных корить, что они-де потачку дали стрельцам да казакам, отчего и смута сделалась. И он велел идти немедля по войску со строгостью, чтоб, боже избавь, не учинили смертного неповинного убойства. На что пятидесятники сказали: «Эх, батюшка, Василий Тихоныч! Нам тех людей не унять – так-то всех окаянный Гараська сомутил, что мы и сами, знаешь, пришли в робость, другой день по своим избам хоронимся. Давайте лучше пойдем двор запрем покрепче, чтоб, ежели что, в осаду сесть». Так и сделали. Стали ждать, что утром бог пошлет.
13. Их покинем за чарками, а сами на другое обернемся. Верстах в двадцати от Воронежа жил боярский сын Михайла Чертовкин. Тоже вел род от воронежских строителей и в прежние годы жил справно, но вот оскудел, стало нечем кормиться. Он тогда зачал промышлять дурно, выходил на Московскую дорогу. И так снюхался с Глухим с Ильей, и сделался у них промысел артельный. Чертовкин двор стоял на крутом бугре что крепость: лес, мочажинник, лога непролазны. И такое место называлось Чертовкина гора, да и по сей день название живо. На Чертовкином дворе Герасим в те дни спасался. И тройки, что подхватывали его, были Илюшкины. А чтоб Насте какого худа градские злодеи не учинили, и ее тайным делом, ночью, туда же, на Чертовкину гору, увезли. Да она еще и Нежку свою не покинула, взяла с собой, там ее пасла на Чертовкиных буграх. Ходила, бедная сиротинка, песенку пела. Над ней – облачко плыло, черный ворон, крича, летал; внизу – речка в камышах шелестела – тихо, пустынно, лишь мрежник[21] одинокий далече мреет в тумане. К ночи сом поднимался со дна из-под коряги, бил плесом тихую воду. А за ночью вослед печаль пала на сердце, чуяло, вещун, беду. Все ждала Настя – вот зазвенят колокольцы, вот прискачет из города Герасим с товарищами, вот горячей рукой, мил дружок, приласкает, молвит: «Что закручинилась, ягодка? Полно-ка, кинь тоску! Скоро, скоро в сарафанах мухояровых, в парчовых станешь ходить, боярыня!» Ох, не радовали сарафаны! Петухи полночь кричат, а все нету милого… Таково скушно да боязно!
14. Ко вторым петухам прискакали. Коней не распрягая поставили, засыпали в торбы овса, а сами, едва кусок хлеба проглотив, надели чистые рубахи, да и – назад на рассвете. Стоит Настя у околицы, глядит вослед, и вовсе потерялась, голубочка: не ведает – были, не ведает – нет. Как ветерок пролетел, лишь дорога пылит вдалеке…