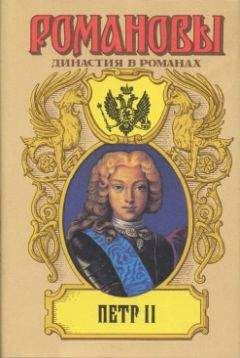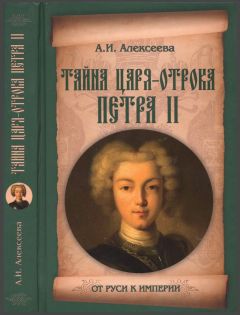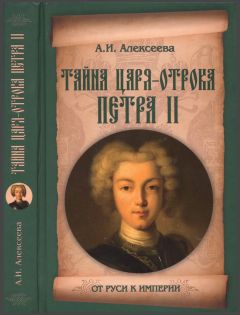— Ну, оно, к примеру, и лучше. Без народу-то складней.
— А потайное дело, должно?
— Потайное.
— Ну так сказывай…
Антропыч хитро прищурил левый глаз и хихикнул:
— А угощенье где? Чай, знаешь: сухая ложка рот дерёт.
— Ишь, утроба ненасытная! — выругался Митяй, но всё-таки встал, достал из поставца полуштоф, стакан и тарелку с кислой капустой.
— Вот это ладно! — дрожащим голосом воскликнул Антропыч, наливая стакан и с жадностью проглатывая зеленоватую жидкость. — А то совсем сморило. Ну а теперь слушай…
И он принялся посвящать Митяя в подробности своего злодейского плана.
Митяй слушал молча, изредка только поглядывая на своего собеседника, но было видно, что предлагаемое дело ему вполне по душе: чем дальше говорил Антропыч, тем ярче горели глаза Митяя, и когда наконец тот кончил, Митяй вскочил и воскликнул:
— Ладно. Не сумлевайся! Всё обделаем!..
Глава VII
По следам Меншикова
Если Иван Долгорукий не заботился об упрочении своего положения и, довольствуясь любовью юного императора, не старался из этой любви извлечь как можно более выгод для себя и своей семьи, то совсем не так поступал его отец, князь Алексей Григорьевич Долгорукий.
Устранив Меншикова и послав его в ссылку в дальний Берёзов, он смело пошёл по его следам, заботясь не о царе, не об его благоденствии, а только об удовлетворении своего ненасытного честолюбия.
Пользуясь любовью и расположением юного Петра, Алексей Григорьевич, так же как и Меншиков, старался удалить от него все опасные элементы, всех тех людей, которые могли повредить его замыслам. Так он постарался избавиться от Александра Львовича Нарышкина [9], двоюродного брата Великого Петра, только что возвращённого из Пелыма, — куда он был сослан Меншиковым, — только для того, чтобы быть сосланным снова в свою деревню, но уже по настоянию князя Долгорукого. Так ему удалось отделаться от Сергея Дмитриевича Голицына [10], которого сильно полюбил царь, но которого всё-таки отправили посланником в Берлин. В то же самое время Алексей Григорьевич старался удалить Петра и от принцессы Елизаветы и уменьшить значение в глазах царя барона Остермана, действительно хотевшего воспитывать царя, а не сделать из него безграмотного неуча, как того добивался Долгорукий.
Будучи вторым воспитателем юного императора, Алексей Григорьевич, вместо того чтобы приохотить царственного ребёнка к занятию науками, вместо того чтобы сделать из него достойного преемника его великого деда, употреблял все усилия, чтобы вполне подчинить Петра своему влиянию и, потворствуя всем его слабостям и прихотям, стать к нему в такое же положение, в каком был опальный теперь Меншиков. Петру, конечно, больше нравилось ездить по полям и лесам, охотясь за лесными обитателями, чем сидеть в классной комнате за книжкой; ему нравились, понятно, гораздо больше весёлые товарищеские игры с фаворитом, чем сухие учёные разговоры барона Остермана, и Алексей Григорьевич позволял императору целые дни проводить в Петровском дворце и Коломенском, вместо того чтобы заниматься науками и государственными делами, нарочно увозил его как можно дальше от Москвы на охоты, устраивая заранее по церемониалу, особенно заботясь о том, чтобы на этих охотах не присутствовали ни барон Остерман, ни принцесса Елизавета.
Он даже старался отдалять от Петра и своего сына Ивана, видя, что тот во многом не согласен с ним, далеко не сочувствует его честолюбивым замыслам. Боясь, что Иван не только не захочет помогать ему, а, пожалуй, будет противодействовать — и в силу своего более правдивого характера, и просто потому, что он с ним с некоторого времени не в ладах, Алексей Григорьевич решил постепенно отдалить юного царя от Ивана и заставить его перенести свою любовь на второго сына, Николая [11].
Иван Алексеевич, может быть, и догадывался о кознях, которые строит против него отец, но не только не старался их разрушить, не только не противодействовал, а, как бы и не замечая их, сам даже играл ему в руку, постепенно всё больше и больше отдаляясь от Петра.
С Иваном как-то сразу произошла резкая перемена. Ещё недавно он терпеть не мог разгула и попоек, в которых тогдашняя молодёжь проводила всё свободное время, словно стараясь вознаградить себя за воздержание петровских времён. Меланхоличный, задумчивый, грустивший по полям и лесам вотчины, в которой он провёл своё детство, Иван удалялся от шумных сборищ, избегал буйного веселья, шумным потоком клокотавшего вокруг него…
И вдруг, как-то сразу, он стал совершенно другим. Он всё реже и реже стал сопутствовать царю в его чуть ли не ежедневных поездках в Измайлово, Коломенское, Петровский дворец; перестал даже появляться на царских охотах и предался такой бесшабашной, разгульной жизни, что все знавшие его, а в особенности сам Пётр, только диву дались. В Москве заговорили об его изумительном пьянстве, о скандалах, в которых он был и первым зачинщиком и участником. Он по целым неделям не появлялся ни в доме отца, ни в своих дворцовых покоях.
Пётр страшно горевал о таком поведении своего любимца, и в это-то время Алексей Григорьевич и принялся развлекать его, пользуясь полнейшей свободой.
Хитрый Остерман всё время прихварывал, Елизавета впала в немилость, Голицына не было, — и Долгорукий стал приводить в исполнение давно обдуманный план.
Алексей Григорьевич прекрасно понимал, что положение его и его родни далеко не так прочно. В народе его не любили за то, что, будучи воспитателем царя, он не воспитывал его, а, развлекая, истощал заранее его и без того не крепкую натуру; придворные, и в особенности члены верховного совета, положительно ненавидели его и за его фавор у царя, и за заносчивость, напоминавшую по временам меншиковские времена. Нужно, следовательно, было укрепиться, стать твёрдой ногой на ту почву, которая теперь всё ещё колебалась, — а для этого самым подходящим средством было женить царя на одной из своих дочерей.
— Ставши царским тестем, — говорил он мысленно, — я буду всесилен. Тогда уж мне бояться некого и нечего.
Но, думая так, он забывал недавний пример, прошедший перед его же глазами, — пример Меншикова, который тоже чуть не сделался царским тестем и, разжалованный, лишённый чинов, орденов и всех своих богатств, влачил теперь в глухом сибирском посёлке самую жалкую жизнь. Останавливал Алексея Григорьевича от его честолюбивых увлечений его двоюродный брат, фельдмаршал российских войск Василий Владимирович Долгорукий, человек испытанной честности и замечательного ума.
— Берегись, брат, — сказал он ему, когда Алексей Григорьевич сообщил о своих надеждах на брак царя с княжной Екатериной, — берегись: ты заходишь слишком далеко.
Алексей Григорьевич презрительно встряхнул плечами.
— Не дальше, чем зашёл Меншиков.
— Ну, он попал слишком далеко, чтобы желать следовать его примеру, — усмехаясь, отозвался Василий Владимирович.
— Так ведь он погиб потому, что восстановил всех против себя, — горячо возразил Алексей Долгорукий.
— А ты такой безвинный агнец, что против тебя никого нет? Ошибаешься, Алексей Григорьич, жестоко ошибаешься. Из-за тебя нас всех ненавидят. И скажу тебе прямо, что коль ты на такую глупость польстишься да просватаешь за царя дочку, — плохо будет дело. Пропадём мы все ни за грош.
— Будет каркать, ворона!
— Да я не каркаю. Я дело говорю.
— Да чего ж опасаться?!
— А того, что брак царя на подданной ныне немыслим.
— Да на ком же наши цари раньше женились?! — воскликнул Алексей Григорьич. — Чай, всё на подданных…
— Так то было раньше. А ноне совсем другая статья. Теперь не дадут усиливаться одним в ущерб другим… Там как ты хошь, коли ни семьи, ни себя, ни нас не жалеешь… А всё скажу: не дело задумал.
Но и увещания брата не образумили Алексея Григорьевича. Он слишком был уверен в расположении царя, чтобы бояться грядущих бед. Да и перспектива будущего величия была слишком заманчива, чтобы честолюбивый вельможа мог отказаться от своих надежд и мечтаний.
И он начал приводить в исполнение свой замысел.
Убедить юного императора в ошибочности воззрений его великого деда не составило большого труда уже потому только, что могущественной союзницей Долгорукому явилась бабка царя, инокиня Прасковья, — насильно постриженная первая супруга Великого Петра. Она ненавидела всё, что он сделал, чему положил основу и что заповедал довершить своим потомкам. Она не была большой поклонницей древнерусских обычаев, но защищала их перед своим царственным внуком только потому, что эти обычаи отверг и искоренил Пётр. Она ничего не имела против Петербурга, как столицы и города, но требовала от внука, чтобы столица была снова в Москве, потому что Пётр построил Петербург и Пётр же сделал его столицей, отняв у Москвы её древнее главенство. Царица-инокиня даже сознавала, что обычай жениться на подданных создаёт вокруг царя смуты, козни и тревоги, но настаивала, чтоб юный император не брал в жёны иностранную принцессу, — и опять-таки потому, что это завещал Пётр. Словом, нелюбовь ко всему, до чего коснулась рука её гениального супруга, была так велика, что она отворачивалась, когда в её келью в Вознесенском монастыре царь входил в своём бархатном, расшитом золотом французском кафтане… Пётр уничтожил древнерусскую одежду, она желала, чтобы внук восстановил её…