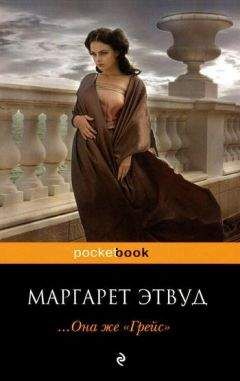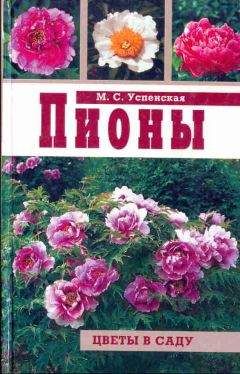— Слышь, Грейс, — говорит один, — я смотрю, у тебя новый ухажер, доктор небось. Не знаю, сам он стал перед тобой на колени или же ты свои коленки перед ним задрала, но лучше ему держать ухо востро, а не то уложишь ты его на обе лопатки.
— Да уж, на лопатки, — говорит другой, — прямо в камере, без сапог и с пулей в сердце. — Они хохочут: думают, что это ужасно смешно.
Я пытаюсь представить, что сказала бы Мэри Уитни, и порой говорю это.
— Если вы действительно так обо мне думаете, то придержите свои грязные языки, — сказала я им. — А не то я вырву их темной ночью у вас изо рта вместе с корнем! Мне даже нож не понадобится — просто схвачу зубами и вырву! И не смейте прикасаться ко мне своими мерзкими лапами!
— Шуток не понимаешь? Я б на твоем месте только рад был, — говорит один. — Кроме нас, к тебе никто и не прикоснется всю оставшуюся жизнь. Тебя ж заперли здесь, как монашку. Признайся, тебе ведь страсть как хочется покувыркаться. Ты ведь путалась с тем коротышкой Джеймсом Макдермоттом, убийцей чертовым, пока ему не выпрямили его кривую шею.
— Брось задаваться, Грейс, — говорит другой. — Хватит корчить из себя саму невинность, будто у тебя и ног-то нет, словно ты чиста, как ангелочек! Можно подумать, ты никогда не леживала в кровати с мужиком, там, в льюистонской таверне, мы ведь слыхали об этом. Когда тебя сцапали, ты надевала корсет и чулки. Но я рад, что в тебе еще остался прежний дьявольский пыл, не выбили его из тебя покуда.
— Ох, люблю, когда в бабе есть задор, — говорит первый.
— Как в бутылке с джином, — подхватывает другой. — Тут и до греха недалеко, прости господи. Маленько растопки, чтоб огонь пуще горел.
— Хорошо, когда баба вдрызг пьяна, — говорит первый, — а еще лучше, если обопьется до беспамятства. Тогда ее и не слышно, ведь нет ничего хуже вопящей шлюхи.
Ты сильно шумела, Грейс? — спрашивает другой. — Визжала, стонала, извивалась под этим жалким трусишкой? — и смотрит на меня, что я отвечу. Иногда я говорю, что не потерплю таких разговоров, и тогда они от души смеются, но чаще я просто молчу.
Так мы и коротаем время, пока не доберемся до ворот тюрьмы.
— Кто идет? А, это вы, день добрый, Грейс! И два кавалера тут как тут, ходят за тобой, будто к фартуку привязанные. Подмигни да пальцем помани — они тут как тут, бегут вдоль по улице, крепко схватив тебя за руки.
В этом нет надобности, но им это нравится. Они прижимаются ко мне все теснее, пока совсем не стиснут. И мы шлепаем по грязи, через лужи, вдоль куч конского навоза, мимо цветущих деревьев в огороженных садах: листочки и цветы похожи на свисающих желто-зеленых гусениц. Лают собаки, мимо проезжают экипажи и кареты, разбрызгивая по дороге грязь, а люди пялятся на нас — ведь ясно, откуда мы идем, по моей одежке видно. Наконец мы поднимаемся по длинной аллее с цветочными бордюрами к служебному входу.
— Вот она, в целости и сохранности. Пробовала сбежать, верно, Грейс? Улизнуть от нас хотела. Глазищи-то голубые, а сама хитрая! Может, в следующий раз тебе и повезет, девочка моя. Надо было приподнять подол повыше и показать свои чистенькие пятки, да лодыжку в придачу, — говорит один.
— Да нет, еще выше, — добавляет другой, — задрать аж до самой шеи. Тогда б ты шла, как посудина под всеми парусами, с задницей по ветру. От твоих прелестей мы б застыли на месте, как громом пораженные или ягнята на бойне, когда их по голове стукнут, а ты — хлоп! — и удрала бы.
Они перемигиваются и смеются — это одна похвальба. Они все время говорят друг с другом, не со мной.
Невежи, одним словом.
Я не прислуживаю в доме, как раньше. Жена коменданта меня до сих пор побаивается: думает, что со мной случится новый припадок и я разобью какую-нибудь ее драгоценную чайную чашку. Можно подумать, она никогда не слышала, как люди орут. Поэтому я больше не протираю пыль, не заношу поднос с чаем, не опорожняю ночные горшки и не застилаю постелей. Теперь я работаю на кухне: чищу кастрюли и сковороды на судомойне или тружусь в прачечной. Я-то не возражаю, ведь мне всегда нравилось стирать: работа тяжелая, и руки от нее грубеют, но зато потом такой свежий запах.
Я помогаю постоянной прачке, старухе Клэрри — наполовину она цветная и была когда-то рабыней, пока здесь с этим не покончили. Она не боится меня, не обращает на меня внимания, и ее не интересует, что я такого совершила, пусть хоть убила джентльмена. Только кивает, будто бы хочет сказать: «Еще одним меньше». Она говорит, что я трудолюбивая, от работы не отлыниваю и мыла зря не перевожу. Я знаю, как обращаться с тонким льняным полотном и как выводить пятна, даже на светлом кружеве, а это не так-то просто. Еще я хорошо крахмалю белье, и можно не опасаться, что я сожгу что-нибудь утюгом, — а большего ей и не надо.
В полдень мы идем на кухню, и кухарка отдает нам остатки из кладовой: в самом худшем случае немного хлеба, сыра и мясного бульона, но обычно еще что-нибудь, ведь Клэрри — ее любимица, и все знают, что Клэрри нельзя перечить, а не то она может вспылить. Жена коменданта просто молится на нее, особенно из-за кружев и оборок, говорит, что она — сущий клад, что ей нет равных, и очень не хотела бы ее потерять. Поэтому Клэрри ни в чем не отказывают, а раз я с ней, то не отказывают и мне.
Тут меня кормят лучше, чем в хозяйских покоях. Вчера нам досталась целая куриная тушка, не траченная. Мы сидели за столом, как две лисы в курятнике, и обгладывали косточки. Наверху подняли такой шум из-за ножниц, а тут вся кухня ощетинилась ножами да вертелами, как дикобраз. Я могла бы в два счета сунуть один в карман фартука, и никто бы не заметил. С глаз долой, из сердца вон — вот их девиз, а под лестницей — для них все равно что под землей. Им-то самим невдомек, что слуги могут по ложечке вынести через черный ход больше, чем хозяин внесет через парадную дверь лопатой, главное — выносить понемножку. Одного маленького ножичка никто ведь не хватится, и лучше всего спрятать его в волосах, под чепцом, туго сколотым булавкой, а то неприятный будет сюрприз, ежели ножик случайно выпадет.
Мы разрезали куриную тушку таким ножом, и Клэрри съела нежное мясцо внизу, рядом с пупком: она любит его подъедать, если останется, ведь она старшая, и выбор всегда за ней. Мы почти не разговаривали, а только щерились друг другу — курица была уж больно вкусная. И съела жир на спинке и на шкурке, высосала ребрышки и потом облизала пальцы, как кошка. После обеда Клэрри быстренько покурила трубку на лестнице и вернулась к работе. Мисс Лидия и мисс Марианна пачкают целую груду белья, хоть я вовсе не назвала бы его грязным. Наверно, по утрам они его примеряют, а потом, передумав, снимают, нечаянно бросают на пол и топчутся, и после этого белье приходится отправлять в стирку.
Проходит время, и когда солнце на часах вверху начинает клониться к вечеру, у парадной двери появляется доктор Джордан. Я прислушиваюсь к стуку, звонкам и топоту служанки, а потом меня по черной лестнице уводят наверх: мои руки белые-белые от мыла, а пальцы все сморщились от горячей воды, как у свежей утопленницы, но при этом они красные и шершавые. Наступает нора шитья. Доктор Джордан садится в кресло напротив и кладет на стол свою записную книжку. Он всегда что-нибудь с собой приносит: в первый день — какой-то засохший голубой цветок, на второй — зимнюю грушу, а на третий — луковицу. Никогда не угадаешь, что он в следующий раз притащит, хотя ему больше нравятся фрукты да овощи. В начале каждой беседы доктор спрашивает меня, что я думаю об этом предмете, и я что-нибудь отвечаю, просто чтоб не расстраивать его, а он это записывает. Дверь всегда должна оставаться открытой, чтобы не возникало никаких подозрений и соблюдались правила приличия. Если б хозяева только знали, что творится каждый день, пока меня к ним ведут! Мисс Лидия и мисс Марианна проходят мимо по лестнице и заглядывают к нам: они ужасно любопытные, и им не терпится посмотреть на доктора.
— По-моему, я забыла здесь наперсток. Добрый день, Грейс, надеюсь, тебе уже лучше? Извините нас, доктор, мы не хотели вам мешать.
Они обаятельно ему улыбаются: прошел слушок, что он не женат и при деньгах, но я не думаю, что хоть одна из них удовольствовалась бы доктором-янки, если бы ей предложили что-нибудь получше. Однако они проверяют на нем свои чары и привлекательность. Впрочем, кривовато им улыбаясь, он тут же хмурит брови. Не обращает на них особого внимании, ведь они всего лишь глупые девчонки, и приходит он сюда не ради них.
Он приходит ради меня. Поэтому ему не нравится, когда прерывают наш разговор.
В первые два дня и прерывать-то было особо нечего. Я сидела, опустив голову, не смотрела на него и дошивала стеганое одеяло для жены коменданта — осталось закончить пять лоскутков. Я смотрела за иглой, сновавшей туда-сюда, хотя, мне кажется, я могла бы шить даже во сне, ведь я занимаюсь этим с четырех лет и умею делать крошечные стежки, словно мышка. Начинать учиться лучше смолоду, иначе никогда не освоишь. Главные цвета — светло-розовая веточка и цветок на темно-розовом, белые голуби и виноградные лозы на сине-фиолетовом фоне.