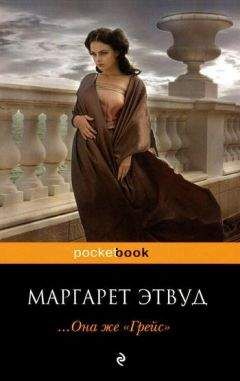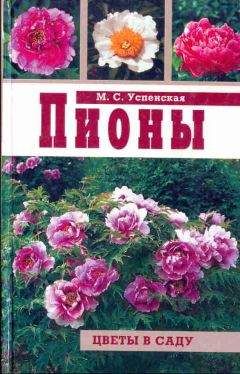Тем не менее комендант — полагаю, по настоянию преподобного Верринджера — из кожи вон лезет, стараясь мне услужить, и готов ежедневно предоставлять Грейс Маркс в мое распоряжение на несколько часов. Очевидно, она выступает в роли бесплатной служанки, хоть я пока и не выяснил, считает ли она свою работу одолжением или наказанием. Выяснить это будет довольно трудно, ведь кроткая Грейс, закалившись за эти пятнадцать лет в огне чистилища, стала очень крепким орешком. Подобные исследования неэффективны, если не завоевать доверия пациента. Но, исходя из моего знакомства с исправительными учреждениями, я предполагаю, что у Грейс слишком мало оснований кому-либо доверять еще очень долгое время.
Пока что мне удалось лишь один раз повидать предмет моих исследований и еще слишком рано делиться впечатлениями. Скажу лишь, что я полон надежд, и коль скоро ты любезно выразил желание следить за моими успехами, я постараюсь держать тебя в курсе. Засим остаюсь, дорогой мой Эдвард,
Твоим старинным другом и давнишним товарищем
Саймоном.
Саймон сидит за письменным столом, грызет кончик пера и поглядывает в окно на свинцовую, зыбкую поверхность озера Онтарио. На той стороне бухты — остров Вульф, названный, как он предполагает, в честь легендарного генерала, о котором слагали стихи.[18] Этот вид Саймона не вдохновляет — пейзаж так убийственно горизонтален, — но однообразные картины порой располагают к раздумьям.
В окно хлещет ливень, а над озером несутся низкие, рваные тучи. Водная поверхность неспокойна: волны накатывают на берег, отступают и накатываются вновь, а ивы под окном колышут своими длинными зелеными волосами, склоняются и хлещут друг друга. Мимо проносится что-то белесое, похожее на женский шарф или вуаль, но потом Саймон понимает, что это просто чайка борется с ветром. «Бессмысленная суета природы, — думает он. — Клыки и когти Теннисона».[19]
Саймон уже не питает тех радужных надежд, о которых только что написал. Наоборот, он охвачен беспокойством и унынием. Его пребывание здесь кажется сомнительным, однако на данный момент у него нет другого выбора. Он занялся медициной из юношеского упрямства. Его отец был богатым фабрикантом и рассчитывал со временем передать дело Саймону, который тоже на это рассчитывал. Но сначала ему хотелось немного побунтовать — уйти с проторенных путей, попутешествовать, получить образование, испытать себя, в том числе — в мире науки и медицины, который всегда его привлекал. Потом он мог бы вернуться со своим «коньком» домой, в полной уверенности, что не придется скакать на нем ради заработка. Он знал, что многие светила науки обладали состояниями, которые позволяли им заниматься исследованиями бескорыстно.
Саймон не ожидал столь ранней смерти отца и краха его текстильных мануфактур и до сих пор не знал, что же чему предшествовало. Вместо увеселительной прогулки по тихой реке он потерпел крушение в открытом море и теперь плыл, вцепившись в обломок мачты. Иными словами, ему пришлось во всем полагаться на самого себя — во время юношеских споров с отцом Саймон утверждал, что именно к этому и стремился.
Мануфактуры были проданы, с молотка ушел и внушительный дом его детства с огромным штатом прислуги — горничными, кухарками и служанками. Эта переменчивая череда улыбчивых девушек и женщин с именами типа Элис или Эффи баловала его на протяжении всего детства и юности, и сейчас у него такое чувство, будто их продали вместе с домом. От девушек пахло земляникой и солью, у них были длинные волнистые волосы — или у одной из них, и она иногда их распускала; возможно, это была Эффи. Что же касается его наследства, то оно оказалось меньше, нежели полагала матушка, и большая его часть досталась ей. Она полагает, что живет в стесненных условиях, и это действительно так, если учесть, какими эти условия были прежде. Мать считает, что жертвует собой ради сына, и он не хочет лишать ее этой иллюзии. Отец был всем обязан самому себе, но мать построила свою жизнь с чужой помощью, а подобные сооружения, как известно, недолговечны.
Поэтому сейчас частная психиатрическая лечебница ему не по карману. Чтобы собрать на нее средства, нужно предложить что-нибудь новое — какое-нибудь открытие или средство лечения, и это в области, которая и так уже изобилует идеями, впрочем, весьма спорными. Возможно, когда он сделает себе имя, то сможет открыть учреждение на паях. Однако нельзя терять контроль: Саймон должен иметь возможность абсолютно свободно следовать своим принципам — как только он их определит. Он напишет проспект: светлые просторные палаты, хорошая вентиляция и канализация, обширная территория с протекающей через нее рекой — ведь журчание воды успокаивает нервы. При этом он откажется от механизмов и всевозможных приспособлений: никаких электрических приборов и магнитов. Правда, подобные изобретения весьма впечатляют американскую публику — ей нравится, когда врач поднимает рычаг или нажимает на кнопку, — но Саймон не верит в их эффективность. Вопреки искушению он не пойдет на сделку с совестью.
Сейчас все это лишь мечты. Но ему необходим хоть какой-то проект, чтобы показать его матушке. Она должна поверить, что у сына есть цель, пусть даже сама она этой цели не одобряет. Он, конечно, всегда сможет жениться по расчету, как поступила она сама. Мать обменяла свою фамилию и связи на груду звонких монет и мечтает устроить нечто подобное и для него: брачные сделки между обедневшими европейскими аристократами и новоиспеченными американскими миллионерами становятся все более популярными, в том числе в Челноквилле, штат Массачусетс, хотя и в гораздо меньших масштабах. Саймон вспоминает выступающие передние зубы и утиную шейку мисс Веры Картрайт и в отвращении содрогается.
Он смотрит на часы: завтрак опять запаздывает. Каждое утро его на деревянном подносе доставляет Дора, единственная служанка в доме. Она с глухим стуком и грохотом ставит поднос на столик в дальнем углу гостиной, и после ее ухода Саймон туда садится и жадно поглощает те блюда, что кажутся ему съедобными. Он взял за привычку писать перед завтраком за другим столом, побольше, чтобы, склонившись за работой, не поднимать на служанку глаз.
Дора — полная женщина с лицом как блин и маленьким искривленным ротиком, как у обиженного ребенка. Ее густые черные брови сходятся на переносице, придавая ее хмурой физиономии оттенок вечно возмущенного осуждения. Понятно, что свою работу она ненавидит, и Саймону интересно, чем бы ей самой хотелось заниматься. Он попытался представить Дору проституткой — Саймон часто играет в эту мысленную игру с различными женщинами, встречающимися ему на пути, — но не смог вообразить себе мужчину, который оплатил бы ее услуги. Все равно что платить за то, чтобы попасть под телегу, и не меньшая угроза для здоровья. Ведь Дора — баба дюжая и способна переломать мужчине хребет своими бедрами, которые Саймон рисует себе сероватыми, как вареные колбасы, колючими, как опаленная индейка, и огромными, как свиные окорока.
Дора отвечает ему таким же неуважением. Очевидно, ей кажется, что Саймон снял эти комнаты с единственной целью — донимать ее. Из его носовых платков она делает фрикасе, рубашки перекрахмаливает и теряет пуговицы от них — наверняка, что ни день, собственноручно обрывает. У Саймона даже возникли подозрения, что она умышленно пережаривает гренки и переваривает яйца. Бухая поднос на стол, она орет: «Ваша еда!» — словно зовет есть борова, а затем ковыляет прочь и захлопывает за собой дверь, едва не снося косяки.
Саймон избалован европейскими служанками, от рождения знающими свое место, и еще не привык к возмущенным проявлениям равноправия, с которыми так часто можно встретиться по эту сторону океана. Конечно, за исключением Юга, но туда он не ездит.
В Кингстоне можно было бы найти жилье и получше, но ему не хочется переплачивать. Эти комнаты вполне подходят для его недолгого пребывания. К тому же других жильцов нет, а Саймон ценит уединение и тишину, благоприятствующую размышлениям. Дом каменный, холодный и сырой, но в силу своего темперамента — возможно, в нем говорит старожил из Новой Англии — Саймон немного презирает материальный комфорт. А в бытность свою студентом-медиком он приучил себя к монашескому аскетизму и многочасовой работе в тяжелых условиях.
Он вновь поворачивается к письменному столу. «Дражайшая матушка, — начинает он. — Благодарю Вас за длинное и содержательное письмо. Я пребываю в полном здравии и делаю большие успехи в изучении нервно-психических заболеваний среди преступного элемента. Если удастся установить причину этих болезней, то можно будет значительно облегчить страдания людей…»