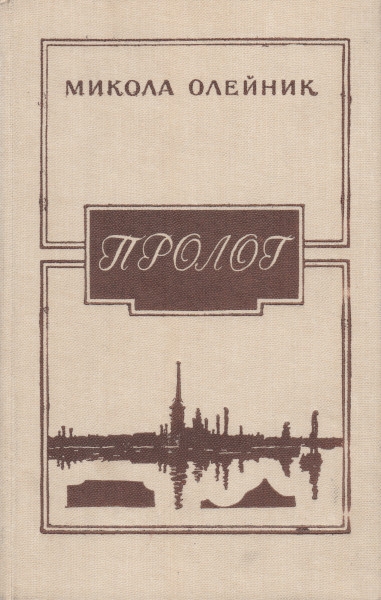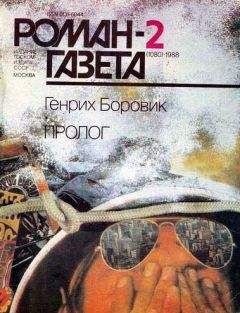почему? Скажите на милость, — горячился Войнаральский. — Дерзкий налет на крепость. Прекрасно!
— Боюсь, что Кравчинский прав, — сказал Мышкин. — Кропоткин человек решительный, но на такой риск даже он не согласился бы. Очень уж большими могут оказаться жертвы.
— А где вы видели борьбу без жертв? — раздраженно вмешался Ковалик.
— Нигде, Сергей Филиппович. Однако идти на жертвы — да еще такие! — и не быть уверенным в успехе, простите, нецелесообразно.
— Надо связаться с Питером, узнать намерение товарищей, — предложил Шишко.
— В центре никого не осталось, — настаивал на своем Войнаральский. — Вся надежда на нас.
— Петербуржцы разгромлены, это верно, — сказал Сергей, — но там есть еще сила, и мы с нею должны считаться. Я за предложение Шишко. Тем временем подумаем, как помочь Мышкину расширить типографию, как лучше ее законспирировать, ведь человек задыхается от перегрузок. А дело делает большое.
Мышкин встал, прошелся, остановился перед столом, за которым сидели друзья.
— Слушаю я эти наши пререкания и думаю: вроде бы к одному стремимся, идем к одной цели, а все как-то по-разному. Словно в той басне о лебеде, щуке и раке. Вот вы, Порфирий Иванович. Ну, подняли бы крестьян, а дальше? Дальше что?
— Известно, если будем такими осмотрительными, то ничего, — обиженно проговорил Войнаральский.
— Минутку, — прервал его Мышкин. — Я имею в виду город, рабочих. На их поддержку вы рассчитывали?
— Рабочих горстка, бессмысленно на них ориентироваться.
— Наша опора в деревне, — добавил Ковалик.
Мышкин будто пронзил его взглядом.
— До каких пор будем держаться за соху?! Капитализм рождает новый класс — пролетариев, рабочих. Сбрасывать их со счета — бессмыслица.
Все были ошеломлены неожиданной вспышкой Иппа. Видно, это давно в нем тлело, накапливалось и только сейчас взорвалось.
Никто уже не вспоминал, по какому поводу они собрались. Даже Порфирий Иванович умолк. Сидел, нервно поправлял очки, часто почему-то сползавшие с переносицы.
— Начали за здравие, а кончили, можно сказать, за упокой, — бросил Шишко.
Вечер явно был испорчен. Правда, ни Мышкин, ни Кравчинский так не считали. И не без оснований. События вскоре подтвердили их предвидение.
Они сидели у Олимпиады, делились впечатлениями от только что прослушанной «Мудрицы Наумовны».
Неожиданно вошла Лебедева.
— Вот хорошо, — сказала, даже не поздоровавшись.
— Что хорошо? — с удивлением взглянул на нее Кравчинский.
— Что вы здесь и что вас так мало. — Девушка наконец отдышалась. — Телеграмма из Петербурга. Нате, читайте.
Сергей торопливо развернул листок бумаги:
— «На Алексееву заявлено».
— Донос? — спросил Морозов.
— Несомненно.
Наступило молчание.
— Что же делать? — спросила взволнованная Олимпиада.
— Во-первых, без паники, — сказал Сергей. — Во-вторых, вам, — обратился к женщинам, — подготовиться к обыску.
— Мне-то зачем? — удивилась Таня.
— Наивный вопрос! Вы что думаете, телеграмма пришла без ведома полиции?.. Но довольно разговоров! — Сергей становился резким. — Липа, все, что у вас в доме есть компрометирующего, надо собрать и унести... и немедленно.
— Книги... — неуверенно проговорила Олимпиада. — Хотя среди них ничего запрещенного, кажется, нет.
— У меня есть брошюры, — сказала Лебедева.
— Я пойду заберу, — вызвался Морозов.
— Идите, — распорядился Сергей. — Сюда вот-вот может нагрянуть полиция. Мы утром наведаемся. Если все обойдется, Липа, раздвинете занавески. До завтра.
Вышли все вместе, однако на улице Олимпиада увидела только Сергея. Кравчинский шел быстро, стремительно, не оглядываясь.
Ночь была тревожной. Николай вернулся поздно, принес несколько десятков брошюр, и они прятали их, рассовывая куда попало. Потом пытались заснуть, хотя каждый понимал, что это напрасно, что достаточно закрыть глаза и в воображении возникает Липа, ее двое детей, милые, наполненные страхом Танины глаза...
Были минуты, когда Николай порывался бежать туда, в гостиницу. Они, кажется, неравнодушны друг к другу, Морозов и Липа, думал Сергей. Он всячески отговаривал товарища. Дескать, какие же мы конспираторы, если среди ночи летим на опасность, как мотылек на свет. Здесь надо сжаться и выжидать. Такова уж судьба подпольщика — один погибает, спасая других...
Под утро встали, оделись и, как только рассвело, помчались на Моховую. Извозчика отпустили за несколько кварталов до гостиницы.
— Я пойду первым, — сказал Сергей. — Проследи, не увяжется ли за мною филер, потом поменяемся.
В такую раннюю пору прохожие встречались редко. Не успели они сделать и нескольких шагов, как заметили знакомую фигуру. Это была Дубенская, двоюродная сестра Лебедевой. В кружке она не числилась, хотя несколько раз и приходила с Таней на вечера. Очевидно, сейчас ее послали разузнать, что там у Липы.
— У Тани обыск, — сообщила. — Я чуть было не попала в западню.
— Когда?
— Только что. Подхожу к воротам, а оттуда полицейский. И дворник. И еще какие-то господа, видимо, шпики.
— А Таня? Ее не видели?
— Нет. Дворник подал мне знак, и я прошла мимо.
— Лучше бы вы немного подождали, — досадовал Кравчинский. — Ну ладно. Сейчас пойдете последней, за ним, — кивнул на Николая.
Сергей вышел на тротуар. На противоположной стороне, у дверей продуктового магазина, стояли две женщины; солидный, с большой медной бляхой на груди дворник счищал лопатой намерзшие за ночь ледяные наплывы; по улице, наполняя ее гулким цокотом копыт и колес, не торопясь, ехал извозчик; поравнявшись с Сергеем, замедлил ход, но Кравчинский не обратил на него внимания, и тот поехал дальше.
...Вот и гостиница. Второй этаж. Одно, второе, третье... четвертое окно. Занавески раздвинуты! У Олимпиады благополучно!.. Еще несколько минут, и они осторожно, чтобы не всполошить в такую рань жильцов, постучали в дверь. Но что это? Похоже, что здесь был погром. Вещи, книги, бумаги — все на полу, все перемешано... Отдает пылью...
— Что же вы? — смеясь, встретила Липа. — Разве это такая уж неожиданность? Садитесь, сейчас подадут чай.
— Когда это случилось?
— Почти всю ночь шарили. И ничего не нашли. Даже мелочи какой-нибудь.
Вошла Дубенская, замерла