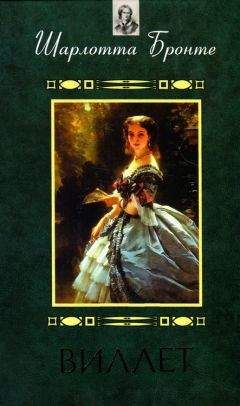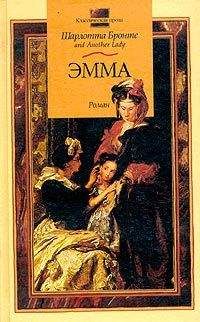Несмотря на сдержанность и такт Грэма, мне не хотелось оставаться с ним рядом, мне следовало уйти подальше от опасного соседства. Я дождалась удобной минуты, встала и ушла. Возможно, он подумал, возможно, он даже понял, что за шляпой и шалью скрывается Люси; уверен он в этом не был, поскольку не видел моего лица.
Кажется, духу перемен и беспокойства пора было угомониться. А мне самой не пора ли было сдаться и отправиться обратно, домой, под надежную крышу? Ничуть не бывало. Одна мысль о моем ложе вызывала у меня дрожь отвращения; я старалась всеми средствами от нее отвлечься. К тому же я сознавала, что нынешний спектакль еще не закончился — едва лишь прочитан пролог; на устланной травою сцене царила тайна; новые актеры прятались за кулисами и ждали выхода. Так думала я, так мне подсказывало предчувствие.
Я брела без цели, куда ни подталкивало меня безучастное сборище, и наконец вышла на поляну, где деревья стояли группками или поодиночке. Здесь толпа поредела. До поляны едва долетала музыка, почти не достигал свет фонарей, но звуки ночи заменяли музыку, а полная яркая луна делала ненужными фонари. Здесь располагались почтенные буржуа, больше семьями, к иным жались выводки детей, которых они не отваживались вести в толчею.
Три стройных вяза, почти сплетаясь стволами, столь близко росли они друг к другу, распростерли шатер листвы над зеленым холмом, где стояла довольно большая скамья, занятая, однако, лишь одной особой, тогда как остальные, пренебрегая счастливой возможностью усесться, почтительно расположились поблизости. В их числе была и дама, державшая за руку девочку.
Девочка вертелась, тянула спутницу за руку, немыслимо дергалась и извивалась. Ее выходки привлекли мое внимание и показались знакомыми; я вгляделась пристальней — знакомым показалось мне и ее одеяние. Лиловая шелковая пелеринка, боа лебяжьего пуха, белый капор — все это составляло праздничный наряд слишком хорошо известного мне херувимчика и головастика — Дезире Бек, а предо мной была именно Дезире Бек либо бесенок, принявший ее облик.
Открытие поразило меня словно гром с ясного неба, но меня ждало новое потрясение. Я буквально остолбенела, когда поняла, чьи пальцы так нещадно терзала прелестная Дезире, чью перчатку так беспечно рвала, чью руку так безнаказанно дергала и чей подол так бессовестно топтала. Конечно же, это были пальцы, перчатка, рука и подол ее достопочтенной матушки. В индийской шали и зеленом капоре, свежая, осанистая, безмятежная, рядом с ней стояла собственной персоной мадам Бек.
Любопытно! А я-то была уверена, что мадам Бек и Дезире вкушают сон праведниц в священных стенах пансиона в глубокой тиши улицы Фоссет. Без сомнения, точно то же думали и они о мисс Люси; и вот, однако ж, мы, все три, вкушали забавы в полуночном, залитом светом парке!
Но мадам лишь уступала давней привычке. Я вдруг вспомнила, как про нее говорили учительницы (просто я не придавала значения этим сплетням), что нередко, когда все полагают, будто мадам крепко спит в своей постели, она наряжается в пух и прах и идет наслаждаться оперой, драмой или же отправляется на бал. Монашеский уклад был ей не по нутру, и она украшала существование с помощью мирских сует.
Вокруг нее стояла группка господ — ее друзей; кое-кого из них я тотчас узнала. Один из них был брат ее, мосье Виктор Кинт; в чертах другого господина — усатого, длинноволосого, спокойного и молчаливого — я заметила сходство с другим человеком. Невозмутимое, неподвижное лицо это все же напоминало другое лицо — нервное, живое, чуткое; лицо переменчивое, то мрачное, то сияющее; лицо, исчезнувшее с моих глаз долой, но освещавшее и омрачавшее лучшие дни моей жизни; лицо, на котором часто замечала я отблески таланта, внутреннего жара и какой-то тайны. Да, Жозеф Эмануэль, сей спокойный господин, напомнил мне своего неистового брата.
Рядом с Виктором и Жозефом я заметила еще одного знакомца. Он стоял в тени и сутулился, но больше других бросался в глаза благодаря своему платью и сверкающей лысине. То была духовная особа — отец Силас. Не вздумайте, читатель, искать в его присутствии на празднике несообразность. Не ярмаркой тщеславия,[323] но данью героям-патриотам почитала это гуляние святая церковь и решительно его поощряла. Парк просто кишел священнослужителями.
Отец Силас склонился над сельской скамьей и покоящейся на ней единственной фигурой; фигура была странная — бесформенная, но величавая. Правда, лицо и черты вырисовывались довольно отчетливо, но казались столь мертвенными и столь необычно располагались, что впору было предположить, будто голову отделили от корпуса и наобум приткнули к жерди, увешанной богатым товаром. Лучи фонарей высвечивали издалека яркие подвески и толстые кольца; ни стыдливость луны, ни отдаленность факелов не могли унять полыхающих красок убора. Здравствуйте, мадам Уолревенс! Вот уж подлинно исчадье ада! Но сия дама скоро сумела доказать, что она не выходец с того света, ибо, когда Дезире Бек слишком уж шумно потребовала, чтобы мать отвела ее полакомиться в киоск, горбунья вдруг урезонила ее, шлепнув тросточкой с золотым набалдашником.
Итак, вот они, заговорщики, — мадам Уолревенс, мадам Бек, отец Силас, вот она, тайная хунта. Вид этой троицы доставил мне удовольствие. Я не дрогнула, не испытала ни смятения, ни испуга. Они превосходили меня в числе, и я была повержена к их ногам, но все еще не растоптана и жива.
Глава XXXIX
Старые и новые знакомцы
Завороженная видом этих трех голов, словно это были головы василиска, я не могла сдвинуться с места — они точно притягивали меня. Кроны деревьев укрывали меня своей тенью, ночь шепотом обещала не дать меня в обиду, пламя факела в руке служителя выбросило длинный язык, указав мне укромное место, и тотчас уплыло прочь. Но пора коротко рассказать читателю о том, какие мне в последние смутные недели удалось вывести заключения об отъезде мосье Эмануэля. Повесть будет недолгая, да она и не нова: маммона и корысть — ее альфа и омега.
Мадам Уолревенс, страшная, как индийский идол, пользовалась, кажется, подобающим идолу поклонением жрецов — своих приспешников, и неспроста. Некогда она была богата, очень богата; ныне она не располагала средствами, но могла в один прекрасный день снова разбогатеть. В Бас-Тере в Гваделупе лежали обширные земли, которые она шестьдесят лет тому назад получила в качестве приданого. После того как муж ее разорился, на них наложили арест, теперь арест сняли, и, если бы за дело взялся с умом честный управляющий, они еще могли бы приносить солидный доход.
Отец Силас вдохновился этими перспективами в интересах церкви, которой мадам Уолревенс была преданной дочерью. Мадам Бек, дальняя родственница горбуньи, зная, что у той нет прямых наследников, здраво взвесила все возможности и с предусмотрительностью любящей матери, корысти ради, заискивала перед нелюбезной с ней старухой. Мадам Бек и священник, стало быть, равно искренне и живо интересовались участью вест-индских богатств.
Но доходные земли были далеко, и климат там считался опасным, а потому на роль умного управляющего подходил лишь человек преданный. Такого-то человека и держала двадцать лет на посылках мадам Уолревенс. Она прежде загубила его жизнь, а потом сосала из него соки. Этого-то человека выучил и наставил на путь истинный отец Силас, опутав узами привычки, благодарности и убеждений. Этого человека знала и умела использовать мадам Бек. «Мой ученик, — решил отец Силас, — буде он останется в Европе, может стать отступником, ибо связался с еретичкой». У мадам Бек были свои причины желать, чтобы его услали подальше, которые она предпочла не высказывать: то, что не давалось ей в руки, она не хотела уступать никому. А мадам Уолревенс попросту желала вернуть свои земли и свои деньги и знала, что Поль, если захочет, сможет, как никто другой, сослужить ей эту службу. Так трое себялюбцев взяли в оборот одного самоотверженного человека. Они уговаривали, они заклинали, они увещевали его, они покорно вручали ему свою судьбу. Они просили, чтобы он посвятил им всего-навсего каких-то три года — а потом пусть живет в свое удовольствие; а уж одна особа из троих, быть может, втайне желала ему живым не вернуться. А кто бы ни испрашивал его содействия, кто бы ни вверялся его заботам, мосье Поль попросту не мог отринуть ничьего ходатайства, ничьего доверия не мог обмануть. Страдал ли он от необходимости покинуть Европу, каковы были его собственные виды и мечты, никто не знал, не задумывался, не спрашивал. Сама я ничего не понимала. Я могла только предполагать, о чем велись речи на исповедях; я могла воображать, как духовный отец делает упор на веру и долг, выставляя их главными доводами. Он исчез, не подав мне знака. Я осталась в неизвестности.