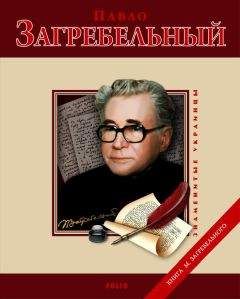Ночью Ярослав позвал Ситника. Ситник тоже заметно постарел за эти годы, стал еще толще, потел, как и раньше, обильно и неудержимо, но уже понял наконец, что не к лицу в его положении излишняя суетливость, поэтому сшил себе по ромейскому образцу охабень с длинными, до самой земли, рукавами, которые перебрасывал через плечи и засовывал за пояс, а руки выставлял в прорези под рукавами, будто огородное чучело; неуклюжий, бездарный, кто не знал, принял бы его за первого бездельника в державе, взглянув на эти заткнутые за пояс длиннющие рукава, но Ярослав по-прежнему продолжал верить в Ситника, не обманул тот князя еще ни разу, выполнял все повеления быстро, точно, главное же — без лишней огласки, что в государственных делах иногда имеет первостепенное значение.
— Что, этот святой в пещерке живой? — спросил князь своего ночного боярина.
Ситник, не поняв, куда князь клонит, торопливо ответил:
— Живой, княже! По твоему велению…
— Постой, — махнул Ярослав рукой, — я не просил тебя напоминать о моих велениях. Спрашиваю тебя: почему до сих пор живой?
— Почему живой? — Ситник моментально растерялся, ему стало жарко, он уже улавливал княжий гнев, только никак не мог угадать, откуда он нахлынул. — Ну… живучий старикашка. Такой шустрый, как рак на суше.
Боярин хрипло засмеялся, чтобы скрыть свою растерянность, но Ярослав не склонен был сегодня к веселью.
— Раз спрашиваю, — сказал сурово, — не нужны мне объяснения.
— Однако ж, княже…
— Говорю, почему живой? — упорно повторил Ярослав. — Не нравится твоя несообразительность, Ситник. Если бы умер человек, а я спрашивал, почему он умер, тогда бы ты и объяснял, кто виноват. А ежели спрашиваю, почему живой, то найди, кто повинен в этом.
— Ага, так, — послушно молвил Ситник, подавляя глупое желание воскликнуть: «Да ты же, княже, виновен, что он живой! Ты же велел носить ему дичь с княжьего стола, и напитки в серебряных бокалах, и меха для теплоты…».
— А в пещерке той пусть молится пресвитер Илларион, — словно о деле уже давно решенном, говорил Ярослав, — передай ему от меня…
Все-таки Ситник, видно, старел быстрее князя: стал тугодумом. Он еще только размышлял, как убрать старика из пещерки, а князь, вишь, и забыл о нем, старик уже не существует для него, властелин хлопочет почему-то о пещерке, стремится как можно скорее поместить туда кого-то другого…
— У Иллариона уже своя пещерка есть, — несмело сказал Ситник.
— Пещерка? — Ярослав прошелся по горнице, остановился перед поставцом с толстой пергаментной книгой, потрогал пальцем лист. — Какая пещерка? Что он там в ней делает?
— Молится с Лукой Жидятой. Лука там и пребывает, а пресвитер ходит к нему, и они в два голоса напевают молитвы.
— Что ж они поют?
— Господи милосердный, прими с земли этой молитву на языке земли нашей… Такое что-то напевает… А у обоих — басы вельми могучие…
— Не спрашиваю о басах. Лука этот — кто таков?
— Жидятой прозван, потому как малым еще его хазары забрали в плен, и там продержали много лет, и склоняли к вере своей, и на язык свой переворачивали. Испробовал он чужбины, и когда прибежал к своим, то теперь ни о чем чужом слышать не может. И христианскую веру признает только на языке нашем, а не греческом. Илларион прячет его от митрополита и от ромеев. В пещерке.
— Почему не сказал мне?
— Не спрашивал ты, княже.
— Знаешь хорошо, что и о неспрошенном должен говорить.
— Знаю, но пресвитера обходил ты в своих подозрениях.
— Обхожу и ныне. Передай, пусть приведет ко мне этого Луку завтра ночью тайно. А пещерку одну пускай засыплет. Хватит ему для молитвы и одной.
— Ага, так.
Было единственное убежище для Луки Жидяты в Киеве, где бы о нем не смог узнать митрополит: княжеский дворец. Ярослав уже отдал одну комнатку для Пантелея и еще для двух писцов; жили при дворце священники, монахи, послушники, канторы, ублажавшие слух князя и княгини сладким церковным пением, полно было придворных, ключников, замочников, стольников, чашников, спальников, жил Бурмака, становился тесноватым уже Большой дворец, построенный еще при княгине Ольге, однако в следующую ночь привезли туда еще одного жильца, вошел он, закутанный в старенький, изорванный мех, в сени вместе с пресвитером Илларионом, вместе поднялись они в сени верхние, прошли в сопровождении Ситника в горницу князя Ярослава; долго, запершись там, о чем-то беседовали, а на рассвете князь вместе с пресвитером спустился в церковь на молитву, а Лука Жидята, яснобородый, коренастый человек с крепкими руками и какой-то особой цепкостью во взгляде, очутился в комнатке отрока Пантелея, искал у него иконку или крестик, чтобы помолиться по-своему, но у Пантелея такого добра не водилось; отрок, лукаво поглядывая на своего нового соседа, сказал, что он приставлен к князю не для молитв, а для жизнеописания; Лука обозвал отрока дураком и варваром, хотел сгоряча избить его, но пожалел, пообещал обратить его языческую душу в христианскую веру, на что Пантелей хмыкнул тихонько себе под нос, чтоб не дразнить ухватистого дядьку, и рассказал Луке о святом человеке, который собрал в себе мудрость Древлянской земли.
— Убит твой учитель, — жестоко сказал Лука, который после многих лет, проведенных у степняков-хазар, не умел скрывать от человека ни хороших, ни плохих вестей.
Пантелей не поверил.
— Врешь! — крикнул он Луке. — Сам князь ходил к нему на беседу. Посылал ему в серебряной посуде пить и есть! Берег его! Князь наш мудрый — не только книги любит, но и людей, которые дороже сотен книг!
— Князь его кормил, князь и убил, — спокойно промолвил Лука.
— За что же?
— Не все ли равно? Так нужно.
— Не может того быть, — прошептал Пантелей, — не верю я тебе! Сам сбегаю на Бересты!
А через день возвратился в Киев, сел за выданный ему Ситником лист пергамента и, заливаясь слезами, написал черными чернилами, настоянными на дубовой коре, желудях и черном железе: «Князь-бо Ярослав муж богобоязливый и к книжной премудрости вельми охочий. Велика-бо бывает польза от учения книжного; книгами, значит, и постигаем пути к покаянию, обретаем мудрость и воздержание от словес пустых; это реки, утоляющие жажду вселенной, это истоки мудрости; книгам не найти глубины, ими утешаемся в печалях, они же и от грехов и прегрешений нас сдерживают». Сбоку, наискось, мелкими буквицами вывел: «Ох, слезы мои, слезы горькие!».
Ситник приходил ежедневно в определенный час, протягивал руку, говорил:
— Отдай телятину!
Пантелей подавал ему исписанный пергамент, при этом надлежало выражать боярину необходимую учтивость, но древлянский отрок не способен был к этому, вместо того чтобы застыть перед всемогущим боярином, он как-то неуклюже ерзал на месте, хитрая улыбка пробегала по его устам, вспыхивала то в одном, то в другом уголке губ, в бегающих глазах скрывалось лукавство. Ситник не мог терпеть такого поведения и кричал на Пантелея:
— Смотри мне в глаза!
Но во взгляде отрока была прежняя неуловимость, его светлые глаза метались туда и сюда, хотя и смотрел он словно бы на сурового боярина.
— Скользкий ты, хлопче, но от меня еще никто не уходил! — зловеще грозил Ситник.
И наконец он выследил Пантелея, схватил его за руку. Долго вертел пергамент так и этак, смотрел на харатью сбоку, переворачивал ее так, что отроку даже смешно стало. Ситник не обращал внимания на эту смешливость Пантелея, поплевал себе на палец и принялся считать строчки на пергаменте. Пересчитал в одном столбце, потом и во втором.
— Ага, — промолвил он зловеще. — А это что?
И ткнул послюнявленным пальцем в дописанные строки о слезах.
— Не поместилось все, — забегал глазами Пантелей.
— Так. — Ситник запер харатью в деревянный сундучок, который носил с собой на этот случай. — Я покажу тебе «не поместилось». Жидята где? Должен сидеть тут и не рыпаться.
— Не знаю.
— Будешь знать. Ты у меня будешь все знать! — пообещал ему Ситник и быстро направился на княжью половину.
А у князя была поздняя и совершенно неожиданная гостья. Княгиня Ирина. Пришла одна, без свиты, без прислужниц, где-то по дороге растеряла всю свою холодную неприступность и степенность, почти влетела в палату князя, растрепанная и распатланная, бросилась к Ярославу в каком-то отчаянном движении близости, он быстро встал ей навстречу, протянул руки. Когда-то на новгородском вымоле встретились они как жених и невеста, потом была первая брачная ночь, когда они стали людьми отчужденными, почти врагами, а для людей — князем и княгиней, потом много лет без любви отбирал у нее женское, а она давала ему детей, — и вот впервые, кажется, средь темной зимней ночи встретились эти два человека, объединяемых уже не княжеством, не гордыней, не холодным расчетом, а чем-то человеческим. Чем?