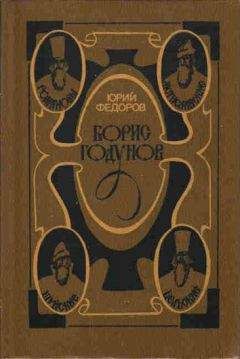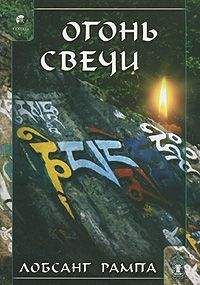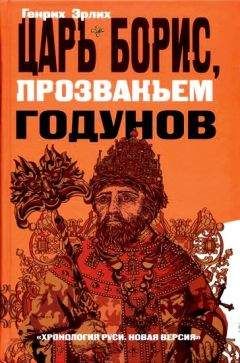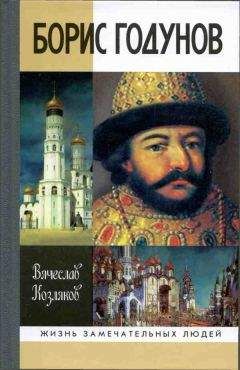Ущучил его царь Борис.
Дума сказала — боярину Василию перед людом московским предстать.
Тогда же решено было — без промедления послать навстречу вору стрельцов. Во главе рати поставлен был любимец царя Бориса, окольничий Петр Басманов.
В эти предзимние дни в Дмитрове объявился стрелецкий пятидесятник Арсений Дятел. Прискакал он из Москвы по плохой дороге, по грязям, и сразу же поспешил в Борисоглебский монастырь. Горя нетерпением, обсказал, что прискакал для закупки коней по цареву повелению. Игумен обрадованно засуетился — уразумел, что деньгу урвать можно, распорядился подать сулею[31] с монастырской славной настойкой и прочее, что к сулее полагается. Заулыбался приветливо, заквохтал, что та курица, собирая цыплят.
Арсений, приморившись с дороги и оголодав изрядно, от угощения не отказался. Сел к столу. Игумен сказал должные к трапезе слова, с одушевлением потер ладонь о ладонь и разлил винцо.
Настойка загорелась пунцовым в хорошем стекле.
— Кони у нас есть, — сказал игумен, — поможем. Кони добрые. Доволен будешь.
Пятидесятник, не отвечая, вытянул стаканчик винца, медленно, как пьют с большой усталости, и принялся за мясо. Жевал тяжело, желваки над скулами пухли. Игумен разглядел: лицо у стрельца хмурое, серое. «Что так?» — подумал и хотел было продолжить разговор, но видно было, что Дятел его не слушает, и он замолчал, с досадой сложил сочные губы.
Гость доел мясо. Игумен поторопился с сулеёй, но, выпив и второй стаканчик, стрелецкий пятидесятник не стал разговорчивее, а, подперев голову кулаком — кулак у него, заметил монастырский, здоровый, тот кулак, что, ежели в лоб влетит, долго шишку обминать будешь, — уставился в узкое, забранное решеткой оконце. А там и глядеть-то было не на что. За окном бежала дорога, залитая дождем и изрытая глубокими колеями. Тут и там белели пятна тающего, неустоявшегося снега да гнулись под холодным ветром редкие березы, свистели голыми, безлистыми ветвями. По дороге тащилась телега с впряженной в оглобли жалкой лошаденкой. Ветер, поддувая, задирал ей тощую гривку. Стояло то безрадостное предзимнее время, когда только выглянешь за дверь — и зябко станет, ноги сами завернут к печи, к теплу. Проклятое время, самая что ни есть тоска. Арсений Дятел в стол руки упер, поднялся со скамьи, сказал:
— Ну, отец игумен, пора. Показывай коней.
— Ах и ах, — всплеснул руками монастырский, — какая сейчас дорога? Погодить бы…
Но стрелец взглянул с недобрым недоумением.
Игумен еще больше заохал. По другому времени да с более веселым человеком монастырский с радостью бы коляску заложил и покатил по зеленым рощам, по мягоньким лесным дорожкам, а сейчас сумно стало от одной мысли — тащиться по грязям.
— Вовсе я обезножел, — сказал слабым голосом, — но коли такая спешка — пошлю-ка я с тобой монаха Пафнутия. Он у нас лошадками занимается и толк в них знает.
Дятел промолчал. Ему, видно, все едино было — кто с ним поедет. Не угрел его винцом отец игумен.
Охая и приседая под недобрым взглядом, игумен проводил стрельца во двор. На каждой ступеньке лестницы за поясницу хватался, к перильцам припадал, всем видом на случай, выказывая, что радеет, несмотря на болезнь, по цареву делу.
Монах Пафнутий подобрал рясу и взобрался в седло. Плюхнулся мешком.
— Поехали, — сказал сырым голосом и каблуком толкнул коня в бок.
Дятел тронулся следом. За ними потянулся по грязи пяток стрельцов. Кони, со всхлипом ставя копыта в разбитые колеи, шли шагом. На крыльце монастырском, придерживая развевающуюся на ветру рясу, стоял игумен. Глядел вслед бестревожными глазами.
Всю дорогу монах молчал, только поглядывал на пятидесятника, на его стрельцов. С деревьев, когда углублялись в лес, срывались тяжелые капли, обдавая верхоконных холодными потоками. Скучная была дорога, какой разговор. Однако Пафнутий — а примечать он, известно, в людях многое умел — сказал себе, приглядевшись к Арсению Дятлу: «Э-ге… Дума какая-то его гложет… А мужик-то здоровенный, крепкий и судьбой, видать, не обиженный, но вот гложет его что-то, непременно гложет». Но об том промолчал. И, еще раз глянув в сторону пятидесятника, подобрал поводья нахолодавшей рукой. Знобко, знобко в лесу было, неуютно. Кони, громко хлюпая, все тянули и тянули копыта из грязи, и звук этот, сырой и вязкий, головы пригибал, и по спинам ощутимо сквознячком потягивало.
На отару Степана вышли они вдруг. Лес расступился неожиданно, и взору явилось распахнутое до окоема поле. Припорошенное снегом, но все еще богатое хотя и пожухлыми, потерявшими цвет травами, оно раскрывалось так широко и мощно, что невольно каждый из выехавших из леса всадников вздохнул полной грудью. Да иначе и быть не могло — такой простор открылся, такое раздолье ударило в лица вольным, валом катящим навстречу, свежим пахучим ветром. И тут же они увидели, как из-за холма, вздымавшегося по правую руку от них, вышел косяк лошадей.
Пафнутий оживился, привстал на стременах и, указывая плетью, вскричал:
— Гляди, гляди! Идут, идут, милые!
И столько объявилось в нем задора, что не узнать было в этом человеке понурого монаха, скособочившись, молчком торчавшего в седле долгую дорогу.
— Идут, идут! — кричал он неведомо кому. — Ах, лихие, ах, милые мои!
А кони и впрямь шли лихо. Не так, чтобы шибко поспешая, но все же резво, легко и вместе с тем сильно наступая сбитой громадой косяка. И, словно подтверждая и подчеркивая эту силу, ветер донес до стоящих на опушке мощный, упругий гул бьющих в подмерзающую землю копыт.
Вожак, высокий в холке, темный, со светлым ремнем по спине, вдруг увидел всадников и стал. И разом замер косяк.
Из-за холма выехал всадник.
— Степан, — оборачиваясь к пятидесятнику с неугасшим на лице оживлением, сказал монах, — лучший отарщик. И кони у него лучшие. Какие кони, а?!
И стало видно, что не так уж монах и стар, а ежели и стар, то за долгие годы, прожитые на этом свете, набрал он силы, как многолетнее дерево, которое встретишь иной раз и подивишься ему — вот и коряво, и сучкасто, и изъедено ветрами и иными невзгодами до трещин на коре, ан стоит, и стоит так прочно на земле, что многим моложе его в лесу никогда так не стоять.
Подскакал Степан, стянул шапку с головы.
— Показывай, господину пятидесятнику коньков своих, — сказал ему приветливо Пафнутий. — На цареву службу пойдут. Ты уж расстарайся. Честь большая.
Оставшееся до темноты время отбирали лошадей. А когда стемнело в степи, прошли к стоящим у леса шалашам и разожгли костер. Степан, не мешкая, приготовил толокняную, приправленную салом кашу, похлебали ее вкруг, и стрельцы улеглись вповалку на лапнике в шалаше. Умаялись, знать. Степан потоптался вокруг них и вернулся к костру.
Стрелецкий пятидесятник и Пафнутий, сидя у огня, негромко разговаривали. Да больше говорил стрелец, а Пафнутий слушал да кивал головой. Вот ведь как случилось — игумен и с сулеей, но слова не вытянул из гостя, а этот за толокняной кашей разговорил. А может, приглянулся он стрельцу? Уж больно домашняя была у него рожа, несуетные глаза, которые в чужую душу не спешат заглянуть.
Степан приткнулся с краю. Подбросил в костер сучьев. Стрелец глянул на него искоса, но речи не прервал. И Степан услышал слова дерзкие, такие слова, за которые многим можно было заплатить, а то и жизнью рассчитаться. Насторожился.
О воре Гришке Отрепьеве Степан знал. Об том грамотку цареву в монастыре игумен перед братией читал, и он там был. А тут услышал, что вор-то уже российский городок взял и Москве грозит. «Эх ты, — подумал, — вот как оно получается… Вот тебе и вор».
Стрелец рассказывал, как люду московскому боярин Шуйский, выйдя на Лобное место на Пожаре, объявил о том, что своими глазами зрел захоронение истинного царевича Дмитрия в Угличе. И на том крест целовал.
А было это так. Ударили колокола на Москве, и народ хлынул на Пожар. Собрались от мала до велика. Толчея. Гвалт. Бабы, конечно, в крик. И вдруг на народ от Никольских ворот стрельцы поперли, расчищая дорогу. За ними бояре, иной царев люд и впереди — Василий Шуйский.
Боярин шел тяжело, опустив лицо. Так шел, будто на веревке тащили, а он упирался. И стрельцы вроде бы не дорогу ему освобождали, но вели к Лобному месту, как на казнь ведут.
— И многие смутились, — сказал Дятел, — глядя на то, как шел боярин. Оно и слепой видел — не своей волей идет князь, но по принуждению. Спотыкается.
Василий Шуйский подошел к Лобному месту и остановился, словно в стену уперся. Народ рты раскрыл. Показалось, что в сей миг повернется боярин и, так и не поставив ноги на каменные ступени, назад побежит, заслонив лицо в стыде, что взял на себя сей не праведный труд.
— И еще больше смутились люди, — поднял взгляд от костра стрелец и взглянул на Пафнутия, — да и как не смутиться? К народу вышел боярин, а ноги-то у него не идут. Слово сказать хочет, а оно, видно, поперек глотки у него стоит. Как поверить такому?