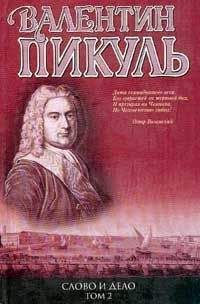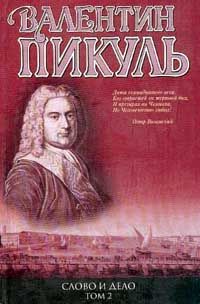Анна Иоанновна подарка не приняла, «бабу волосатую» отвели под караулом за Неву — прямо в Академию наук. Там ее изучали сначала географы, долго возились с нею и астрономы. После чего от астрономов перешла «баба волосатая» на изучение ботаников. Тут ее следы и затерялись на веки вечные…[34]
Наверное, вырвавшись из клетки зверинца, несчастная женщина, почуяв свободу, просто бежала от ученых в деревню свою. А там состригла себе бороду и стала жить, как все люди живут.
Меч уже занесен над головою Волынского — надо теперь верно направить удар его по шее… Остерман заявил Бирону:
— Мы, немцы, не должны в этом деле рук пачкать. Про нас и без того в Европе слухи плодят, будто мы Россию изнасиловали… Нет, — подчеркнул Остерман, — с русскими пусть сами русские и расправляются! А мир увидит чистоту и справедливость нашу…
Бирон снова падал на колени перед императрицей.
— Волынский или я! — взывал он.
Князь Куракин кликушествовал в аудиенц-каморе:
— Великая государыня, исполни предначертанье дяди своего, Петра Великого: сруби ты кочан дурацкий с корня гнилого…
Бирон напоказ перед всем городом стал укладывать свои богатства в обозы, будто собираясь отъехать на Митаву для княжения, и тогда Анна Иоанновна, напуганная разлукой с ним, указала:
«Понеже Обер-Ягермейстер Волынской дерзнул Нам, своей Самодержавной Императрице и Государыне, яко бы нам в учение (советы подавать)… такожде дерзнул в недавнем времени в самых покоях, ще Его Светлость владеющий Герцог Курляндский пребывание свое имеет, неслыханные насильства производить (намек на избиение Тредиаковского)… многие другие в управлении дел Наших немалые подозритедьства в непорядочных его поступках на него показаны…»
И повелела «того ради» особую Комиссию назначить!
Избрали в нее генералов: Григория Чернышева, Александра Румянцева, князя Василия Репнина, Петра Шилова и, конечно же, Андрея Ушакова. Из тайных советников выбрали Василия Новосильцева, Александра Нарышкина и Ваньку Неплюева, который еще с конгресса Немировского был злобным врагом Волынскому. Добавили в судьи князя Никиту Трубецкого, мужа Анны Даниловны, и колесо фортуны человеческой завертелось в другую сторону…
Судьи все русские! Но что с того, что они русские?
Справедливо говорил покойный Тимофей Архипыч:
«Друг друга поедом они жрут — и тем завсе сыты бывают…»
Лучше бы немцы судили — все не так обидно!
* * *
Ушаков наложил на Волынского арест домашний.
— Сидеть тихо, — повелел он. — Пылинки в дому своем не смей сдунуть. А детей и дворню я тоже под замок сажаю.
В дом вступил караул, поручик Каковинский спрашивал:
— За что, господин высокий, гнев на тебя изливают?
— А за то, братик, за что и на тебя можно гневаться. Я против немцев в правительстве русском! А ты мне ответь — разве чужих людей в доме своем возлюбил бы ты? Рассуди сам, поручик, какая жизнь при дворе стала: приманят куском да побьют хлыстом…
Ввел он Каковинского в задумчивость. Пока солдаты досками окна ему заколачивали, Волынский детей своих позвал:
— Помогайте батьке своему…
Сын с дочерьми печи растапливали. Бросали в огонь бумаги отцовские. Волынский свой «Генеральный проект о поправлении России» на листы терзал, швыряя их на прожор пламени. А сам плакал, плакал… Сколько бессонных ночей, сколько восторгов пережил, сколько помыслов породил! Желал для страны родной блага, а теперь, словно вор, утаивать должен сочиненное.
Книги из библиотеки жечь — рука на это не поднялась:
— Пусть стоят! Хотя, сам знаю, книги не нашего времени. Их раньше или позже нас иметь можно. А сейчас крамольны они…
Не удалось сжечь только бумаги из сундуков, ключ от которых у Кубанца хранился. Караул загнал Волынского в кабинет с забитыми окнами, возле дверей — часовые. С детьми министра сразу же разлучили. Просил он допускать до себя доктора Белль д'Антермони и тех нищих, которые с улицы подаяния просят. Но Ушаков велел нищих штыками от дома гнать, а врача обещал… дворцового!
Явился Рибейро Саншес.
— Что с вами? — спросил любезно, в глаза заглядывая.
В потемках комнаты трещали толстые сальные свечки.
— Душою мечусь… весь горю… Света жажду!
Рибейро Саншес сказал:
— Успокойте свое высокое достоинство. Или вы не знаете, в какой стране живете? Кто здесь меж нами безопасен?
— Волк среди волков — вот кому хорошо живется.
— Против вас, — шепнул ему Саншес, — собралась такая стая, в которой и волку не ужиться… Рецепт мой апробируют в канцелярии Тайной, я вам советую капли для успокоения натуры.
— На что мне капли ваши? Дали б сразу яду.
— Капли хорошие… бестужевские! — сказал Саншес.
При имени врага, едущего из Копенгагена, чтобы его в Кабинете заместить, Артемий Петрович вскочил в ярости;
— От капель злодея сего не будет мне успокоения… Яду!
В шестом часу утра за Волынским приехала карета. С конвоем повезли министра в Литейную часть, прямо в Итальянский дворец, что строен был Петром I для своей Екатерины. Стыли под снегом оранжереи, в лед Фонтанки вморозило от зимы корабль, стоявший в гавани Итальянской; вокруг недостроенных фонтанов краснели груды битых кирпичей, неуютно здесь было…[35]
Волынский, увидев перед собой Комиссию, тихо удивился: в числе судей заседал и конфидент его — Василий Новосельцев; а подле него подлый Ванька Неплюев сиживал в теплой шубе. Начали судьи, как водится, с восхваления мудрости Анны Иоанновны, которая сомнению подвержена быть не может. Зачитали вслух «предику», и с голоса читавшего предисловие к процессу Волынский легко уловил знакомый штиль письма Остермана.
В его сознании вязко осели подхалимские слова:
«…понеже, —
писал Остерман, —
весь свет с праведным прославлением признает дарованное от всемогущего бога ея величеству высочайшее достоинство и просвещенный разум, мудрость Анны Иоанновны и ея проницательность, то предерзостные рассуждения Волынского весьма неприличны и оскорбительны!»
Именем божием на Руси всегда престол заслоняли.
Тут Ванька Неплюев, как с цепи сорвался, и — полез.
— Отвечай нам, — кричал он министру, — что ты противу Остермана имеешь и почто угождать ему не желал?
Волынский сел, но ему сказали, чтобы он встал.
— Ладно. Постою. А против Остермана я и правда что зло имею. Он только себя почитает способным для управления государством и других никого не подпущает. А когда я по чину кабинет-министра дела делал, то Остерман по городу ползал и всюду сказывал, что Волынский ему Россию испортит…
Ушаков улыбнулся хитренько:
— Скажи, Петрович, отчего ты рабу своему Кубанцу возвещал о материях непристойных, до государыни нашей касающихся?
Новосельцев, кажется, подмигнул. Или показалось?
Волынский долго молчал. Ответил Ушакову с горечью:
— Любил я его-гаденыша!
Ушаков, премного довольный, засмеялся. Волынский тут сразу ощутил, что великий инквизитор знает многое. И от этого он малость заробел, но гордости не потерял. Подбородок холеный с ямочкой задирал перед судьями, взирая на генералов свысока.
Чернышев в бумажку фискальную глянул:
— Однажды Кубанец тебя спрашивал: «Что-де изволите сидеть печальны?» На что ты отвечал ему так: «Сижу-де я и смотрю-де я на систему нашу… Ой, система, система! Подохнем все с этою системой нашей!» Вот ты теперь и скажи Комиссии: какая такая система не по вкусу тебе пришлась и на што ты ее охаивал?
Ушаков вопрос генеральский дополнил:
— После же лая на систему монаршу ты Кубанцу хвалил системы, где власть венценосцев республиканством ограничена.
Волынский дерзко расхохотался в ответ:
— Я демократии не добытчик! А вы, коли назвались в судьи, так не все ловите, что поверху воды плавает…
От иных же вопросов Артемий Петрович даже отмахивался:
— Не желаю говорить! О том государыня от меня ведает…
А коли судьи настырничали, он вообще замолкал.
Никита Трубецкой из-за стола тоже на него потявкивал.
— Отчего, — спрашивал, — ты считал, что страна наша, благоденствуя при Анне Иоанновне, в поправлении через твои проекты нуждается? Ведь ежели все хорошо, тогда к чему же исправлять?
Волынский отвечал князю Трубецкому:
— Спроси о том у Анны Даниловны своей, даже она ведает, что не все хорошо у нас, как это тебе сейчас приснилось…
— А зачем ты спалил проект свой? — спросил Ушаков.
Вопрос дельный. Волынский отговорился:
— Стало быть, уже не нужен он более…
Держался он молодцом, чести ни разу не уронил. Голову нес высоко. А судьи его спрашивали: