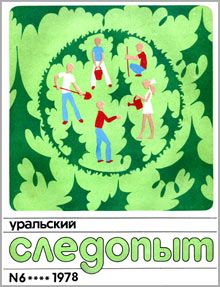— Она, картошка-то, без хлеба легче, — ответил Афоня.
Картошку круто солили, запивали водой. Разговор вели неторопливый: слово — через картошку, другое — через глоток.
— Как там? — интересовался Никита.
— Сказывают, на Волге немца побили, — ответил Афоня то, что слышал по радио.
— Дело, — кивнул Никита.
Неторопливо очистили по картошке.
— Исправные мужики на войну едут, — сообщил, наконец, Никита.
— Дело серьезное, — высказал свое мнение Афоня.
— Который котелок-то мне отдал, спрашивал: как живете? Говорю: хорошо.
— А он?
— Интересуется: не голодно? Показываю ему на поля да огороды: вон сколько еды, говорю. И вас голодом не оставим. Только, говорю, вы там поприлежнее с ним, с Гитлером-то, чтобы каждая пуля без промаху. Обещался. Обратно, говорит, поеду, непременно, отец, тебе рапорт отдам.
— И отдаст, — сказал Афоня.
— А как же! — Никита улыбнулся. — Я ему, Афоня, так напрямки и сказал: дождусь, мол!
— Требовательный ты, мужик, знаю, — похвалил Афоня. — Своя-то служба как?
— Да так… Сменщика-то нет теперь, а поезда идут часто, — поведал Никита. — Старуха приходит, провожает поезда за меня часа три, пока высплюсь. А потом опять сам. Вишь, и постель устроил, как-нибудь пробьюсь до победы.
Расстались в сумерках.
Афоня пошел домой прямиком, через густой — в зарослях — лес, — знал свою дорожку. К березовой роще вышел, когда в небе уже висела луна. В голубом безмолвии под березами тихо спали могилы. По опрятным холмикам Афоня догадался, что могилы подправили еще по теплу. Вспомнилась встреча с Александром Павловичем Завьяловым. Позаботился, значит.
Еще раз обернулся и увидел, что белые надгробья лежат оправленные в траурные тени берез.
Через час уже сидел с берданкой на завалине магазина. Купавина потушила в домах огни. Но Афоня знал, что не все еще спят. Сухими глазами глядит в темноту бабушка Стукова, посылая молитвы в охрану своих остальных живых сыновей-солдат. Лежит в ночи без сна Альфия Садыкова из-за своей мелкой детворы, которая постоянно мается животами. Принимают подушки горькие слезы овдовевших солдаток, кающихся в одиночестве, что не успели вовремя затяжелеть…
Почти до нового года вторая военная зима прикидывалась милостивой. Как хитроватая хозяйка нежеланных гостей, зима с улыбкой проводила старый год, порадовав детвору катушками да играми, а потом, спрятав следы праздников под убродным снегом, сразу ударила сорокаградусной стужей, замораживая вагонные буксы, загоняя людей по домам, не выпуская малышню в школу. И все заметили, что дров припасено в обрез, что бескормица не за горами, и скот удержится только чудом. И, словно подтверждая невеселый людской подсчет, убавились продуктовые нормы.
Купавинцы еле держались домашним подспорьем, а на станции зима уже начинала свой разгул. Все чаще с поездов снимали больных людей, но и втрое расширенный медпункт не вмещал всех, кому нужна была помощь. Врачи определяли у них грипп, воспаление легких, а у некоторых даже тиф. И еще говорили, что ослабели люди.
До войны возле вокзала кроме двух киосков стояла еще вместительная зеленая будка, в которой был скорый ремонт обуви. С начала войны сапожная будка, как и ее соседи-киоски, закрылась. А после нового года большой висячий замок с нее сбили, потому что потеряли ключ, и повесили новый замок, поменьше. В будку стали складывать покойников.
С того дня старались не глядеть на нее купавинцы. Только любопытная ребятня, преодолевая страх, без дыхания приникала к щелям в деревянном щите, закрывавшем окно, и до рези в глазах всматривалась в полумрак. Далекий окрик милиционера Силкина отбрасывал ребятишек от будки, они рассыпались в разные стороны, а немного погодя купавинцы уже передавали друг другу:
— Там двое.
— Нет — трое.
— Мой говорил: двое.
— Погоди, что еще к вечеру будет…
Никакие строгости милиционера Силкина не могли остановить ребятишек, и купавинцы исправно получали сведения каждый день. А вскоре в разговорах заходило слово «копилка» совсем с недовоенным смыслом:
— Опять из «копилки» двоих в березовую рощу свезли…
Ребячья фантазия, услышанные случайно разговоры на веру принимались чаще всего женщинами.
— Слышали, в «копилке»-то лежит в милиционерской шинели?
— Неужели, милиционер?
— Нет, шпион!
— Ой!
— Переодетый. Сказывают, охранники станционные застрелили: наган у него нашли…
При всех скидках на давнюю слабость купавинцев ко всяким небылицам, в их словах была и доля правды. Да, лежал в «копилке» человек в милицейской форме, только не переодетый шпион, а настоящий милиционер — командировочный. И не убитый охранниками, а умерший в Поезде от отравления: купил где-то на станционном базаре у спекулянтов испорченные консервы. А сняли его с поезда действительно бойцы вооруженной охраны, потому что больше некому было.
Вот и стояла возле вокзала «копилка» — холодный временный приют унесенных из жизни болезнями да несчастными случаями в дорожной суете войны.
И неизвестно, сколько еще былей и небылиц связала бы купавинская молва с «копилкой», не случись событий, отодвинувших все другие.
Продавщица магазина, отговариваясь отчетом», отказалась выдать хлеб за четыре дня вперед Альфие Садыковой. Ни уговоры, ни слезы не помогали.
— Засудят меня! — чуть не плача, объясняла продавщица, женщина своя и добрая. — У самой вперед забрано.
— Жрать нечего, — упрямо твердила Альфия, отказываясь понимать любые доводы. — Ребятишка ревет!..
Бабы в магазине молчали. В других делах каждая из них непременно вынесла бы свое мнение, которое не сошлось бы ни с чьим. Но на этот раз все понимали Альфию, потому что сами могли очутиться на ее месте. Но никто не решался осудить и продавщицу, которая — все знали — после закрытия магазина сидит допоздна за прилавком, клеит талончики на газетку, а потом пересчитывает на счетах не на один раз.
Между тем скандал разрастался. Потерявшая остатки терпения, Альфия вдруг закричала:
— Собака ты! Собака ты! Собака ты!..
Продавщица онемела от неожиданности. А потом заревела. Кто-то из баб кинулся уговаривать Альфию, оттесняя ее от прилавка. Другие успокаивали продавщицу. В магазине поднялась кутерьма.
А через полчаса по Купавиной разлетелось:
— Альфия повесилась!..
Возле барака, в котором жили Садыковы, в миг образовалась толпа. Несчастный Нагуман стоял с ребенком в руках, остальные ребятишки держались за его штаны.
— Баба с ума сошла… — твердил Нагуман одно и то же.
Наконец вышла фельдшерица, строго приказала ему:
— Не морозь детей, иди домой. Спасли ее.
Нагуман молча повиновался.
Альфия лежала на кровати. Возле нее сидела санитарка. Альфия еще не вполне пришла в себя, бессвязно бормотала что-то по-татарски. Нагуман столкал перепуганных ребятишек на печку, не подходя близко к постели, смотрел на жену, как на чужую.
Афоня находился тут же. Но видел он не Альфию. В доме Садыковых остались только голые стены. Если не считать засаленного деревянного столика, скамейки, двух-трех табуреток, да продавленной посредине железной кровати, накрытой потерявшим цвет одеялом, глазу не на чем было остановиться.
Альфию от смерти спасли, но зима не отступилась ни от Садыковых, ни от многих других. Стали бить скот. Начинали с мелкой живности: кур, овец, телят-полугодовиков. В феврале забили первую корову…
С нуждой боролись с молчаливым упорством, как со зверем, от которого нельзя ждать пощады, а надо только одолеть. Никто не хотел сдаваться, потому что со сталинградской стороны докатывались залпы большого наступления, и сердце не могло обмануть: начинали наши солдаты свой победный путь.
А пока…
Темная длинная конюшня казалась большой и мрачной. Маленькие продолговатые окошки давно зашили досками для тепла. Когда-то здесь в любую стужу стояло тепло, вздобренное запахом овса вперемежку с родным конским духом. Теперь в стойлах остались только Челка да Коурая — две старухи, как незлобиво называл их Степан.
Мохнатые от инея стены, пустые сенные кормушки, холод не меньше, чем на улице, делали конюшню пустынной. В ее полумраке прыгающим привидением маячил Степан. Повертываясь вокруг своего костыля, он тяжело вваливался то в одно, то в другое стойло, потом надолго замирал, озираясь затравленным взором, и с отчаянной решимостью бросался в стойло на другом конце конюшни.
Но чудес не бывает: все кормушки пустовали.
Степан вернулся в дальний угол конюшни, привалился к стойлу, в котором дремала Челка. Опустив голову в пустое деревянное корыто, она думала о чем-то своем и даже не открыла век. Хребет ее глубоко прогнулся, словно опущенное тощее брюхо оттягивало его.