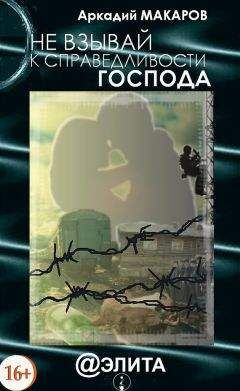Учитель многозначительно посмотрел в глаза девушки, шутливо поцеловал надкушенную конфету и с наигранным чувством наслажденья отправил батончик в свой резко очерченный кавказскими усиками рот.
– Шампанское пусть пока подождёт, а мы сейчас коктейли приготовим, да? Ты любишь коктейли? – улыбаясь глазами, спросил учитель.
Дина неопределённо развела руками.
– Ну, тогда – вперёд!
Роберт Иванович взял из рук девушки недопитый бокал и поставил его на столик.
Из плоской стеклянной фляжки с затейливой наклейкой немного плеснул в бокал жидкости чайного цвета. Обрезал с одного конца небольшой, как теннисный мяч апельсин, зажал его в кулаке и стал сдаивать в бокал сок, затем сдоил лимон, туда же плеснул ещё из фляжки, добавил сахарной пудры, положил несколько кубиков льда из холодильника. Подумав, добавил ещё шампанского, которое, вскипев, быстро погасло. Перемешал содержимое серебряной ложечкой.
– Вот теперь – в самый раз!
Роберт Иванович, подняв свой бокал с чайной жидкостью из той же фляжки, предложил гостье выпить – за любовь, крепкую как этот напиток, за короткое, как пузырьки шампанского, счастье молодости, за вкус жизни, который можно почувствовать, как хорошее вино из бутылки, которую надо только распечатать. И вот тогда можно пить и пить, наслаждаясь букетом, сотворённым умелым виноградарем.
Такую закрученную, пышную фразу сотворил Роберт Иванович, гордясь своим красноречием.
То ли непривычная, волшебная, романтическая обстановка, в которую её заманили, то ли выпитое за свободу человека распоряжаться самим собой, на что больше всего нажимал учитель, восхитили простушку Дину. Стало свободно и легко, словно не она, а весенняя черёмуховая почка, скинув с себя тесную одеревеневшую скорлупу, распустилась белым цветом.
Присутствие мужчины перестало смущать её, теперь безвольную и податливую.
Всё остальное случилось быстро и неожиданно. Здравый смысл улетел вместе с остатками разума. Короткая сладостная боль внизу живота прошла, как вспышка яркой молнии, после которой следует проливной дождь. И он хлынул, затопив девушку, и понёс её в бурном потоке, кружа в водовороте, как хлипкую лодочку, потерявшую гребца и рулевого.
Глотая толчками воздух, чтобы не захлебнутся, она очнулась, но только уже на другом берегу.
Её учитель и наставник долго извинялся за случившееся, разглаживая ладонями помятые брюки праздничного костюма.
В узком туалете Дина торопливо привела себя в порядок, ещё не осознавая, как всё это отразится на её дальнейшей судьбе.
Этой весной наконец-то вернулся из армии долгожданный и ненаглядный сын Пелагеи Никитичны – её Дима, чуть не сорвав с петель тугую избяную дверь.
Стоит, смеётся, солдатский китель нараспашку – свобода!
Самой хозяйки дома не было, и так случилось, что солдата встретила её смущённая квартирантка.
На резкий порывистый гром в коридоре, так непохожий на тихие шаги тёти Поли, так звала квартирантка свою хозяйку, Дина выскочила из постели, да так и осталась стоять, не зная, что делать дальше. Она даже не успела застегнуть халатик, из которого выпрастывалась ночная рубашка.
Сегодня занятия были во вторую смену, и Дина позволила себе дольше обычного понежиться в постели. И теперь вид девушки был совсем не тот, чтобы стоять вот так перед молодым незнакомым парнем.
Она сразу же догадалась, что перед ней тот самый сын тёти Поли, статный, красивый с озорным блеском в глазах.
Пелагея Никитична ушла сегодня пораньше на рынок, не чуя и не ведая, что творится теперь у неё дома. «Сы-нок!» – не раз звала она его во сне, а теперь он – вот он здесь!
Солдат стоял и крутил головой во все стороны – наверное, за время службы и казарменного распорядка, он отвык от этих стен просмоленных временем, от летучих занавесок в мелкий голубенький цветочек, от распушившейся герани на окне и теперь вспоминал – всё ли здесь на месте.
Вид полураздетой девушки нисколько не смутил его:
– А-а, вот кто хозяйничает у нас в доме! – озорно сдвинул он форменную фуражку на брови.
Дина опрометью бросилась за занавеску, приводить себя перед зеркалом в порядок.
А демобилизованный солдат Дмитрий, сын тёти Поли, всё ходил по дому, непривычно скрипя половицами, и посмеиваясь, что-то бубнил себе под нос.
От своей приветливой хозяйки Дина знала о солдате всё или почти всё.
Пелагея Никитична, вспоминая о сыне, становилась разговорчивее обычного: «Это ж надо такому случиться – прямо в скорой помощи опросталась! Четыре кило с половиной малый родился. Врачи удивлялись – богатырь парень! Болеть – болел. А как же без этого! Один раз скарлатину из школы принёс. Температура под сорок. Губы обметало. Бредит родненький! Всё сердце мне изорвал! Напугал до смерти. А он пролежал так три денёчка, открыл глаза – есть давай мамка! Попил молочка с мёдом, и, как рукой сняло эту проклятую скарлатину! А так вроде и не хворал… Как учился, говоришь? А как теперь учатся? Восемь классов кончил – и в ПТУ. Там на токаря выучился. Рукомесло получил. На завод взяли по третьему разряду. Уже и денежки стал домой приносить. А тут в армию ушёл. Девчонки были? А чего же им не быть рядом, коль парень, сама увидишь, какой! Он весь в отца пошёл. Хваткий. Отец его вот тоже такой был. Всё спешит, раз-два – и дело сделано! Не спешил бы, глядишь – и живой бы с нами сидел… А мой Дима парень хороший, добрый. «Я тебя, – говорит, – мама, никогда одну не оставлю! Хоть и когда женюсь, а всё равно жить вместе будем. Денег заработаем – машину купим. Тебя катать буду!»
Пелагея Никитична посмотрит на свою квартирантку, посмотрит и скажет: «Ну-ну, мешаю я тебе своими разговорами, да? Ты, дочка, учись. Работа лёгкой будет. Не на заводе у станка стоять. Чистая, хорошая у тебя специальность – каждый день с музыкой. Праздник!»
…Дина вышла из-за ситцевой занавески – платьице майское в горошек. Лёгкое. Под платьицем девичья грудь тугая – две голубицы горошек поклёвывают, на шейке жилка голубая бьётся, торкается, молодую кровь по телу гоняет. Ножки статные от ушей растут. Глаз не отвести.
Солдат, поперхнувшись, за сигаретой потянулся:
– А мне мать писала про вас! – с растерянности он вставил почему-то «вы». – Вас точно Диной зовут. Я знаю. Такое имя не сразу забудешь. У меня в Армии друг был – радист, я его Динамкой кликал, – почему-то невпопад проговорил он.
– Диной меня дед назвал в честь греческой богини Дианы, наверное. У меня дед чудной был. Скрипач. Вот и я теперь музыке учусь… Я тоже о вас всё знаю – зовут Дмитрий, защитник отечества, уволенный в запас. Так что можно и должно на «ты» обращаться.
– Конечно! – обрадовался Дима. – А то будем жить под одной крышей, а друг друга, как в кино, на «вы» называть! Мы в роте своего сержанта тоже по уставу на «Вы» называли, потому что он козёл был, перед ротным выслуживался. А здесь начальства нет, если только вон печь, пузатая, как наш генерал, стоит.
Дина рассмеялась его неловким шуткам.
– Дмитрий! – протянул он с достоинством тугую, по-мужски жёсткую ладонь. – Прибыл в долгосрочный отпуск, в увольнение! Одним словом – дембель! Который неизбежен, как кризис капитализма. Наш замполит так говорил! И вот – я дома! – Солдат пододвинул табурет к столу и сел, покручивая замысловатый брелок на пальце.
Дина тоже опустилась рядом на стул, не зная, как вести себя дальше, хотя от первого смущения не осталось и следа.
Дима плёл какие-то небылицы из солдатской жизни, армейские анекдоты. Старался показаться остроумным и весёлым собеседником.
Квартирантка явно не оставила парня равнодушным.
Почувствовала это и сама виновница такой разговорчивости отставного солдата – зашевелился ласковый котёнок за пазухой, защемил мягкими лапками девичье сердечко и не отпускает.
Пелагея Никитична, как вошла в дом, так сразу и охнула, уронив на пол тяжёлые сумки с продуктами:
– Ах, сыночек! Голубь мой сизокрылый! Сокол ясный! Вернулся. Вернулся, мальчик мой! – она прижалась к сыну щекой. – Большой-то ты какой! Больше отца будешь! – оглянувшись, гордо посмотрела на квартирантку и чему-то потаённо улыбнулась.
Солдат, смахнув соринку с глаза, прижал к себе легкое, сухонькое тело матери, приговаривая:
– Ну, что ты? Что ты? Вот я весь тут! Отслужился! Теперь с тобой рядом жить буду. Чего плакать-то? – И уже совсем застеснявшись своей минутной слабости, выпростался из материнских рук и полез в карман за куревом. – Я пойду во двор покурю, а ты, мать, пока успокойся! Чего плакать?
– Ну, ты совсем мужиком стал, – вздохнула Пелагея Никитична, – уже и мамой меня называть стесняешься. Чего так теперь? Кури здесь, не прячься! От дома видать совсем отвык! Ох, и большой ты стал, Димочка! Костюм выходной теперь тебе мал будет, да и рубашки тоже… Ну, ничего, ничего, мы тебе новое купим!
Курить в доме да ещё в присутствии матери Дмитрий, действительно, стеснялся. Несмотря на свой возраст, он на самом деле всё ещё чувствовал себя школьником, вернувшимся домой с запоздалого гуляния. Вроде, как обещался прийти с улицы к обеду, а вернулся к утру на другой день и вот теперь не знает, чем оправдаться за долгое отсутствие.