Сталин вслушивался в то, что читала жена, с напряженным вниманием, взвешивая в уме каждое слово и как бы определяя, насколько оно точно и правдиво воссоздает события тех лет и характеризует его деяния. Трудно было представить другого человека, который бы с таким же пристрастием, даже с придирчивостью оценивал столь скучную, даже занудную статью, построенную на лозунгах, затертых штампах и на почти полном отсутствии доказательств. «А чего стоят такие перлы: «Физиономия Царицына в короткий срок стала совершенно неузнаваемой…» — Сталин сердито фыркнул.— Тоже мне, великий аналитик!»
Как ни странно, именно эта фраза в сочетании с теми блеклыми описаниями, которые следовали за ней, оживила Сталина, и он, освобождаясь от теснивших его дум, спросил жену с тем интересом, с каким обычно спрашивают люди, припомнившие что-то такое, что очень радует их сердце:
— А помнишь, каким был тогда Царицын? Помнишь?
— Еще бы,— столь же оживленно откликнулась Надежда Сергеевна.— Мы ехали на автомобиле по главной улице. Можно было задохнуться от пыли. А какая музыка доносилась из парка! Играл духовой оркестр. Какое это было чудо! Пусть война, пусть стреляют, пусть муки, зато какая музыка в парке! Тогда я верила, что буду счастливой и вечно молодой…
— Мне кажется, ты забыла о главном и увлеклась лирикой,— наставительно прервал ее Сталин.— Ты забыла, что по улицам и в парке разгуливала буржуазия и белое офицерье. И что вокруг города сжималось кольцо блокады. Что же касается вечной молодости, то это уже полный идеализм.
«Хорошо еще, что не сказал «идиотизм»,— подумала Надежда Сергеевна.— Конечно, были бы мы ровесниками, он бы, возможно, думал бы так, как и я. Но нет, наверное, преграды более неприступной, чем возраст».
— Может, ты и прав,— покорно согласилась она.— Я всегда, кажется, была идеалисткой… А потом Царицын и впрямь стал крепостью. Смолкли оркестры. На всех перекрестках — патрули. Стрельба по ночам. Хорошо, что ночи еще были короткие. И каждое утро я просыпалась с ощущением, что кончилась война.
Сталин, не скрывая иронии, пристально посмотрел на жену:
— И ты еще мечтаешь о Промышленной академии. Какая, к черту, академия! Ты же законченный гуманитарий. Что касается товарища Сталина, то в Царицыне ему было не до лирики. И по утрам товарищ Сталин не просыпался — потому что не спал, а круглые сутки думал, как навести железный порядок и отстоять город.
— И ты отстоял его, Иосиф.
— Вопреки Иудушке Троцкому. Этот краснобай еще осмелился телеграфировать мне и требовать не разгонять старый штаб, состоящий из предателей. Если бы я послушался — Царицын бы непременно пал. А так он остался Красным Верденом.
— И ты осмелился не выполнить приказ председателя Реввоенсовета? — прикидываясь наивной и недогадливой, спросила Надежда Сергеевна.
— Осмелился? — возмутился Сталин,— Я никогда не сомневаюсь в своей правоте. Если потребуется, я не повинуюсь и самому Всевышнему!
Надежда Сергеевна украдкой перекрестилась.
— На этой вздорной телеграмме я написал всего несколько слов: «Не принимать во внимание. Нарком Сталин». И тут же арестовал изменников-штабистов.
Надежда Сергеевна помрачнела. Ей вспомнились тогдашние разговоры в Царицыне об этих повальных арестах и расстрелах.
— Скажи, Иосиф,— медленно, с трудом выговаривая слова из пересохшей гортани, спросила она,— скажи, та баржа на Волге у пристани… с арестованными… Говорили, их было там так много, что они могли лишь стоять, приткнувшись друг к другу… Скажи, только правду… Я слышала, баржу затопили вместе с людьми…
— Замолчи! — яростно вскричал Сталин,— Кто дал тебе право исповедовать меня? — Он посмотрел на нее таким ненавидящим взглядом, каким смотрел на белых офицеров в Царицыне.— Это не люди! Запомни на всю свою жизнь, глупая сентиментальная женщина! Люди — это те, кто с нами. Те, кто против нас,— нелюди! Слышишь, ты, дряблая, гнилая интеллигентка!
Надежда Сергеевна швырнула на пол газету и в страшной обиде рванулась к двери так стремительно, будто за ней устремилась погоня. На пороге она остановилась и, обернувшись, с горящим от гнева лицом, крикнула:
— Это жестоко! Там могли быть невинные люди!…— Она задыхалась,— А твой Ворошилов… Все победы он приписал тебе. Одному! Там больше нет ни одной фамилии — ни Фрунзе, ни Тухачевского, ни Егорова,— никого! Только Сталин, Сталин, Сталин! А кто приказал утопить этих несчастных? Тоже Сталин?
И она выбежала из комнаты.
Сталин даже не обернулся. Он спокойно раскурил трубку, глубоко затянулся и, усмехаясь, вслух произнес слова, которые начертал тогда, в восемнадцатом, на телеграмме Троцкого:
— «Не принимать во внимание. Нарком…» Нет, генсек Сталин. Этих своевольных женщин,— все так же вслух продолжил он,— надо время от времени учить уму-разуму.
Он с минуту помолчал и опять сказал вслух, будто перед ним стоял его собеседник:
— И это, называется, жена вождя великой державы! А? Да еще с таким символическим именем — «Надежда». Совсем она не надежда для товарища Сталина!
И вновь углубился в чтение, тут же выкинув из головы мысли и о жене, и о неприятном разговоре с ней.
«А вот этого, товарищ Ворошилов, я тебе никогда не прощу,— приметив в статье не понравившуюся ему фразу, подумал Сталин.— Ничего лучше не мог придумать, как оповестить весь мир о том, что, видите ли, товарищ Сталин не имеет никакой военной подготовки и никогда не служил на военной службе. Кто тебя просил вякать об этом? Все, о чем написал, перечеркнул, подлец…»
Между тем Надежда Сергеевна, все еще плача, уже входила в детскую. И тут, словно отзываясь на ее плач, навстречу ей с кроватки в одной ночнушке метнулась Светланка. Приникнув к матери горячим сонным лицом, она громко, почти истерично зарыдала.
Надежда Сергеевна взяла ее на руки и, как это бывает, когда прощаются навсегда, принялась суматошно целовать ее щеки, глаза, волосы, губы, ладошки, но Светланка продолжала всхлипывать, вздрагивая всем своим маленьким беззащитным телом.
— Что с тобой, роднуленька моя? — допытывалась Надежда Сергеевна, испуганно глядя на дочь.
Светланка долго не могла сказать ни слова, горло душили спазмы, слезы ручейками текли по испуганному жалкому лицу.
— Ну говори же, говори… Тебя обидели? Кто?
Светланка распахнула мокрые глаза. Недетский ужас застыл в них.
— Мамочка, мамуленька, я тебя очень прошу…
— Говори, говори… Что ты просишь, Светлячок? Я выполню все, все, что ты попросишь.
— Мамочка, пожалуйста,— с мольбой, несвойственной детям ее возраста, сказала, задыхаясь от всхлипываний, Светланка,— прошу тебя, очень прошу… Ну пожалуйста, мамочка… Не умирай!
Надежда Сергеевна, не ожидавшая такой странной просьбы, вздрогнула, как от удара, боясь, что сейчас, не успев положить дочурку в постель, потеряет сознание.
— Что ты говоришь! Ну что ты говоришь! — возбужденно воскликнула она.— Что ты говоришь такие глупости! Откуда ты это взяла, фантазерка? Сейчас, среди ночи…
— Мамочка, мне снилось, что ты умерла. И мы тебя хоронили. А папа кричал. Очень громко. Он ругал тебя за то, что ты умерла. А я подумала, что это правда. И проснулась. Я не могла больше спать…
— Успокойся, родная,— зацеловала она Светланку,— Не надо верить дурным снам.
— А бабушка Оля говорила, что сны сбываются,— возразила Светланка.
— Нет, нет, такие не сбываются,— убеждала ее мать,— Мы будем жить долго-долго, любимая моя. Мы с тобой увидим небо в алмазах,— неожиданно для самой себя она с упоением произнесла эту чеховскую фразу, совсем упустив из виду, что ее может не понять трехлетняя дочурка.
— А почему папа так кричал на тебя? — вдруг спросила Светлана.— Он не любит тебя?
— Это мы с ним виноваты, расшумелись,— досадуя на себя, догадалась о причине испуга дочери Надежда Сергеевна.— Успокойся, Светлячок. Папа меня любит. И тебя любит. Давай спать. Нам приснятся хорошие, добрые сны…
Спустя неделю после своего приезда Лариса упросила Андрея познакомить ее с его отцом. Андрей обрадовался: это ее желание служило признаком того, что она не собирается уезжать назад в Котляревскую и таким образом снова исчезнуть из его жизни. Андрей без всяких колебаний пообещал Ларисе посвятить встрече с отцом ближайший выходной, как раз перед наступающим Новым годом.
Отец Андрея, Тимофей Евлампиевич Грач, почти безвыездно жил вдали от Москвы в живописном селе Старая Руза. Он поселился там по своей доброй воле почти сразу же после того, как похоронил жену Анастасию Васильевну, умершую от тифа. Москва, которую он, коренной петербуржец, и прежде не очень-то жаловал, не только опостылела ему, но и постоянно напоминала о постигшем его горе — знакомыми улицами и бульварами, по которым они прежде вместе гуляли, театрами и магазинами, в которых бывали, несусветной, едва ли не круглосуточной суетой и даже неуютным небом, тяжело нависшим над серыми громадами домов. И он решил осуществить свою давнюю мечту — сбежать из этого ада, придуманного самими людьми, в какую-нибудь глухомань.
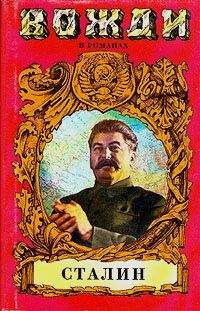

![Картер Браун - Том 13. Пуля дум-дум [Тело. Жертва. Пуля дум-дум. Бархатная лисица]](https://cdn.my-library.info/books/142921/142921.jpg)


