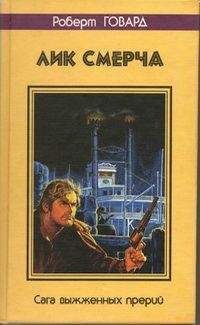— А ты, мастер?
— Я останусь здесь.
Дементий отпрянул.
— Но ведь это великий грех, мастер!
— Перед кем? Перед Богом? Нет, сын мой, каждый носит Бога в сердце своем и потому всегда должен следовать его зову. Ступай!
Оставшись один, Феофан повернулся к окну. Лучи предзакатного солнца, затемненного клубами черного дыма, наполняли комнату мертвенным, багряно-красным свечением. Или то были отблески начинающегося грандиозного пожара?
Феофан поднял чашу и припал губами к ее золотому краю. Едкая жидкость обожгла и высушила горло. Старик кашлянул, откинулся на спинку кресла и молча, сквозь навернувшиеся слезы, с нечеловеческой тоской и болью стал смотреть на зачинающиеся огнем крыши зданий гибнущего города.
С незапамятных времен стены храмов являлись для людей Убежищем. Эти желанные островки среди морей житейских невзгод служили символами Веры, Надежды и Любви, источниками мудрости, вдохновения и Высшей справедливости. Они манили свободой от мирских волнений, святостью, таинством обрядов, покоем души перед Богом. Они укрывали от разгула природных стихий, людских страстей, жестокости правителей. Подобно губке впитывали они в себя страдание, усталость духа, печаль и разочарование и отдавали обратно в виде утешения, доброты и умиротворения перед Вечностью.
Внутри святых стен кончалось человеческое правосудие: перед Богом равны и царь и пастух. Даже преступники, изгои общества, приговоренные к казни, находили в стенах храма спасение. Там они были освящены и недоступны для людских законов, но лишь до тех пор, пока не покидали своего укрытия.
Излишне говорить, что кровопролитие в Божьем храме считалось тягчайшим грехом, даже пронос оружия вовнутрь святых стен был кощунственен и недопустим.
И нет ничего удивительного в том, что в день падения Константинополя тысячи и тысячи людей со всех окраин города устремились к своей наиглавнейшей святыне, к храму Святой Премудрости, четырехгранным каменным холмом возносящего в небеса свой огромный, осенённый крестом золотой купол.
Чуть ли не впервые за всю историю своего почти тысячелетнего существования, храм оказался тесен для великого множества горожан, сбежавшихся под защиту его стен. Огромные ворота с гулом затворились, отрезав на время молящихся от ужасов, творящихся снаружи. Но беда, подобно лесному пожару ползущая по городу, вскоре застучала в двери и, увы, отнюдь не в фигуральном смысле.
Вытянувшись в напряженном ожидании, люди стояли почти вплотную друг к друга, пугливо вздрагивая при каждом ударе тарана. На хорах, где было чуть просторнее, многие стояли на коленях, с надеждой и верой обращая взгляды к алтарю.
Тёмные, аскетически изнуренные, преисполненные неземной одухотворенностью лики святых с настенных росписей смотрели на людей огромными, полными скорби глазами. Застывшие фигуры апостолов склонялись перед грозным величием Христа — Вседержителя, восседающего на троне небесном, с безмолвной мольбой тянули к нему руки. Образ Богоматери с младенцем на руках излучал страдание и муку, налёт обреченности застыл на прекрасном и утонченном ее лице.
Мерно, подобно поступи Рока, грохотали ворота под натиском тарана. При каждом ударе массивные и прочные, обитые медью створы стонали как живые, скрипели, трещали, но не поддавались.
Тихо, подобно шелесту листьев на ветру, разносился по храму шепот молитв.
— Господи, спаси и помилуй….!
— Великий Боже, даруй нам избавление…..
— Прости нас, Всевышний! Прости и не гневись….
— Яви свою милость, Отче наш! Отрази врага от стен обители, не дай свершиться неправедному делу…..!
— Спаси наши семьи, детей наших! Не дай погибнуть им смертью лютой….
Ворота затрещали громче; чувствовалось, что прочность запоров на исходе. Несколько мальчиков-служек срывающимися от страха голосами вразнобой, надрывно и тонко, затянули торжественных гимн литургии. Но их не слушал и не слышал никто. Под мощными ударами ворота грохотали так, что, казалось, сотрясаются сами стены древнего храма, от верхушки купола до самого основания.
— Трубы архангелов возвещают о Судном дне! — вопил на хорах какой-то безумец и рискуя свалиться вниз, далеко вытягивал руку в сторону ворот.
— Молитесь, братья во Христе, молитесь и кайтесь! Благими помыслами искупайте грехи ваши!
Ворота треснули и стали растворяться.
— Всемилостивейший Боже….!…!
Толпа орущих от вожделения чужеземцев ворвалась в храм. Немногочисленные защитники, с оружием в руках пытавшиеся преградить им путь, были истреблены в одно мгновение. Спрессованная людская масса заволновалась и раздалась в стороны. Началось чудовищное столпотворение. Как-будто ожили и воплотились в явь порожденные долгим постом и самоистязанием отшельников отвратительные видения загробных мук грешников.
Гигантские люстры раскачивались, как маятники, поливая горячим маслом копошащееся под ними месиво из человеческих тел, освещали подрагивающим сиянием огоньков картину чудовищного избиения. Воистину могло показаться, что все дьяволы преисподни вырвались на свободу, чтобы возвестить собой всему миру о начавшемся светопредставлении.
Чужеземцы набрасывались на людей, как волки на овец; повисали на них, хватали, рвали, тянули в свою сторону. Множество несчастных было раздавлено или задохнулось в свалке. Некоторые, с изломанными суставами и продавленной грудной клеткой, умирали стоя и еще долго колыхались в обезумевшей массе, мотая из стороны в сторону поникшей головой и поводя вокруг потухшим взором. Сбитые с ног цеплялись за одежду соседа, валили друг друга на пол, топтали лежащих внизу. Выброшенные с хоров падали, нелепо размахивая руками, прямо в толпу; живые ползали по мертвым, мертвые погребали под собой живых.
Люди стонали, плакали, рыдали. Матери закрывали своими телами детей, мужья рвали из чужих цепких рук своих жен. Рассвирепев от криков и сопротивления, захватчики в ущерб себе замахали саблями.
Дикий животный рев повис под высокими сводами храма. Вид крови еще более возбуждал остервеневшую от собственной жестокости солдатню и наскоро растерев немеющие от усталости руки, они начинали вновь рубить безоружную массу горожан, вымещая на них всю злость от неудач двухмесячной осады.
Уже не ручейки, а целые потоки крови вытекали из разломанных ворот храма и журча на ступенях, разбегались вдоль булыжных мостовых.
Некий полоумный дервиш поскользнулся в луже крови, упал и поводя мутным взглядом по сторонам, полоскал в ней руки, смеясь как дитя и вознося хвалу Небесам.
Подобно всему живому, город умирал в мучениях.
Как проказа, пожирающая гнилью плоть человека, пожары двигались к югу, вслед за ордами завоевателей.
Бережно сохраняемые сокровища тысячелетней культуры разграблялись вмиг, под хохот и радостные крики чужеземцев. И если бы только разграблялись! Многое уничтожалось просто так, по прихоти, из-за тщеславия или жажды разрушения, зачастую и из-за желания похвалиться удалью перед собратом по оружию.
Бесценные шедевры дробились на куски, сминались в безобразные лепешки и комки металла, чтобы быть затем припрятанными в узлы и мешки и немного погодя оказаться в цепких руках скупщиков награбленного.
Хмельной разгул бушевал на улицах, как вода в половодье. Одни, кряхтя от натуги, волокли в своих торбах покореженные, сплющенные (чтобы не занимали много места) священные сосуды и дароносицы, обломки крестов, скрученные в тугие жгуты дорогие ткани, одежды, покрывала. Другие — усердно выламывали из дверей золоченные и серебрянные ручки, петли, резные наличники; выбивали из окон цветные витражи и принимая их за драгоценные камни, бережно опускали осколки стекла в свои бездонные мешки. Приметив на их взгляд нечто более ценное, мародеры без сожаления опорожняли битком набитые сумы и тут же вновь принимались заполнять их свежей добычей.
Не менее прочего захватчиков привлекал и «живой товар». Набрасываясь на отчаявшихся в спасении горожан, они, невзирая на сопротивление, выискивали для себя наиболее красивых женщин и детей, оттаскивали их в сторону, валили с ног и связав попарно (спиной к спине, чтобы не могли убежать), вновь бросались за следующей жертвой. Так служанка оказывалась скрученной веревками с госпожой, номарх с конюхом, архимандрит с привратником, юноши с девицами.
Часто между грабителями разгорались стычки из-за добычи: из-за пленников, собак, лошадей или прочих ценностей. Сильный и более злой отбирал у слабого его поживу и тот, наскоро утерев разбитое в драке лицо, вновь пускался на поиски чего-либо подходящего.
Другие развлекались как могли. Группа янычар, окружив монастырь Белых Сестер, с гоготом ринулась на штурм двухсаженной глиняной ограды. Стены святой обители оказались в значительной мере безвреднее стен Константинополя: первый же приступ без потерь увенчался успехом. Напрасно женщины, посвятившие свои жизни Богу, пытались укрыться за дверьми тесных келий. Еще недавно безопасные, охраняемые святостью жилиц убежища перестали быть таковыми. Охотничий инстинкт безошибочно направлял чужеземцев: очень скоро почти все монахини насильно, за волосы, были извлечены из келий, погребов и чуланов и выставлены на обозрение. Затем янычары, сбив пленниц в толпу, принялись поочередно срывать с них одеяния: надо было отобрать среди несчастных тех, кто был годен к продаже — еще достаточно молодых и пригожих, способных к тяжелой грязной работе и деторождению. А для бесполезных, дряхлых старух не жаль и доброго удара клинка….