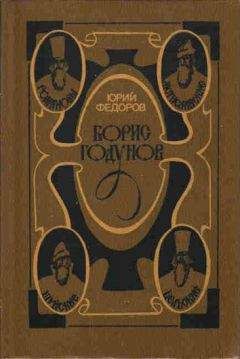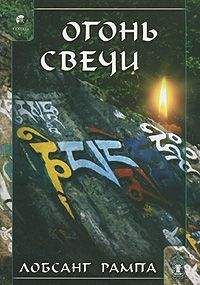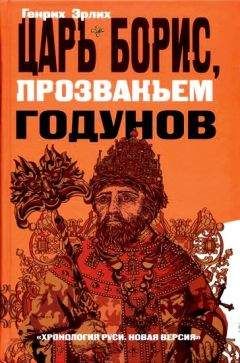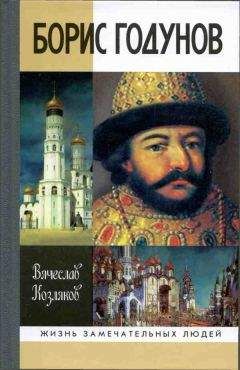Он взмахнул рукой.
Атаман Белешко кинулся с крыльца, потянул из ножен шашку. И пока он тянул шашку, обнажая слепящее лезвие, мнимый царевич уразумел: не дворянин, рвавшийся из рук казаков, был ему страшен, но сами казаки, ибо были они и его опорой, и его же смертной опасностью. И не дерзкие слова дворянина, но опущенные казачьи головы напугали его и подняли в страшном приказе руку.
Белешко подступил к Воронцову-Вельяминову и вскинул саблю. Брызнула кровь, алым растеклась по прибитой до каменной твердости крепостной площади. Слепила глаза, распяливала ужасом рты, перехватывала глотки. И князь Татев попятился, попятился от бьющегося на земле тела, закрестился непослушными, отказывавшимися складываться в троеперстие пальцами, забормотал что-то и все тыкал, тыкал в грудь растопыренной горстью.
Не давая никому опомниться, пан Мнишек закричал:
— Воевода! Присягай твоему государю!
Татев с ужасом на лице оборотился к нему.
— Присягай! — в другой раз крикнул пан Мнишек.
Чутьем угадал: сейчас не сломят воеводу — хуже будет. И пан видел, как напряглись, дохнули опасным стрельцы, как угрюмо нахмурились казаки. Не крепок — куда там! — был и поляк. Знал, что земля, на которой стоит, хотя и окраинная, но уже российская. И церквенка, что выказывалась из-за крепостной стены, вздымала крест не католический, но православный, и люди, вкруг стоящие, не на его языке говорили и думали, знать, не по его. Защемило в груди у пана, заиграл страх. Понял вдруг, что в миг все перевернуться может. И оглянулся, словно искал — куда спрятаться. А прятаться-то было некуда. И, как в Монастыревском остроге, когда впервые являли российскому люду мнимого царевича, мелькнуло в голове: «Сей миг сорвутся и стрельцы, и казаки, пойдут стеной. И не устоять перед ними. Сомнут, истопчут».
Тот же страх сковал и мнимого царевича. Знал он, видел, как ревет толпа, когда неудержима ее ярость. Вспомнил, как в Москве у Лобного места вора били. Как катались яростные тела по пыли, как взлетали кулаки. И глаза вора того вспомнил, протянутые руки. Увидел: вор подкатился к нему под ноги, ухватился за рясу, взмолился: «Оборони!.. Защити!..»
Мнимый царевич, как взнузданный, вскинул голову. Ему показалось: толпа казаков и стрельцов качнулась, кто-то ступил вперед и сейчас все они разом бросятся к крыльцу, на котором он стоял с Мнишеком.
Воевода Татев рухнул на колени и протянул руки к мнимому царевичу.
— Присягаю! — крикнул.
И на колени же повалился князь Шаховской.
В этот же вечер Мнишек сказал Отрепьеву:
— Прошу ясновельможного пана одному к стрельцам и казакам не выходить.
У мнимого царевича рука, сжимавшая витую ножку кубка, задрожала. Он оттолкнул кубок, расплескав вино.
— Да, да, — сказал Мнишек, — сие опасно. Надежной защитой ясновельможному пану может быть только польское рыцарство. И я осмелюсь советовать — выходить пану к люду только в окружении рыцарей.
Мнимый царевич поднялся из-за стола. Прошел по палате.
Вытирая губы салфеткой, Мнишек внимательно посмотрел на него.
Отрепьев остановился у окна. Плечи его были высоко подняты, спина напряжена. Не оборачиваясь, он сказал:
— Я на своей земле. Мне некого бояться.
Голос его готов был сорваться в крик.
— Оно так, оно так, ясновельможный пан, — ответил, помедлив Мнишек, — однако же лучше всегда иметь подле себя надежных людей.
И если бы мнимый царевич в эту минуту обернулся, он бы увидел на лице Мнишека улыбку, которая без сомнения говорила, что он, Отрепьев, для этого вольно сидящего за столом пана только игрушка, нелепый фигляр, с которым свел случай в полной недобрых приключений Мнишековой жизни.
Но царевич не обернулся. Мысли его были заняты иным. Он понимал, что не сабля, не отчаянный штурм открыли перед ним ворота и Монастыревского острога, и Чернигова, но люди этих городов. Ни казаки, ни польские рыцари не выказали пока воинской доблести, но лишь только шли за ним. «Так отчего же этот пан столь вольно сидит за столом, — подумал он, — да еще и пугает меня. Привязывает к своим рыцарям? Такое не позволительно, и должно пресечь эти речи, дабы неповадно было впредь так говорить».
Он повернулся к Мнишеку и сказал властно:
— На этой земле, исконной отчине моей, народ мой встречает меня с радостью и ликованием.
Но Мнишек, услыхав эти резкие слова и взглянув в побледневшее лицо Отрепьева, бровью не дрогнул. Как сидел развалясь, так и сидел. Больше того — потянулся к блюду и, долго высматривая, взял кусок мяса, положил на тарелку. Спокойно отпив глоток вина, будто он сидел не за столом российского царевича, а на пирушке в шинке, сказал:
— Ясновельможный пан может гневаться… На то его воля. Я сказал, что думаю.
И опять вытер рот.
Мнимый царевич ждал в напряжении.
— И в Монастыревском остроге, о котором соизволили вспомнить, — Мнишек поклонился Отрепьеву, — и сегодня в крепости я видел на лице ясновельможного пана не высокое и благородное волнение государя, являющегося своему народу, но… страх.
Глаза Мнишека вонзились в лицо мнимому царевичу.
— Страх! — ударил он голосом и, тут же смягчая тон, с должным почтением продолжил: — Но сие разумно. Толпа всегда опасна.
Отрепьев растерялся. Понял: Мнишек видит гораздо больше, чем он мог предположить. Пережитое сегодня на крепостном дворе еще и сейчас трепетало в нем, в глазах стояли мрачно опущенные головы стрельцов и казаков, плечи ощущали давление неожиданно и странно уплотнившегося и отяжелевшего над крепостью воздуха.
Отрепьев сел на прежнее место и протянул руку к кубку.
Мнишек, перегибаясь через стол, наполнил кубок вином.
— Ясновельможный пан, — сказал он, — не должен предаваться страстям.
Голос его был само миролюбие, ласка и почтительность, но при всем том Мнишек не отказал себе в удовольствии капнуть в этот мед ложку иронии. Да это было не удовольствие, но обдуманное действие. Он давал понять Отрепьеву, что не следует зарываться в игре в царевича, так как он, Мнишек, знает и его силу, и его слабость.
Отрепьев понял это и даже глаз не поднял от стола. Взял кубок и выпил залпом.
Пан Мнишек удовлетворенно откинулся на спинку стула.
В дверь стукнули и в палату, цепляясь саблей за притолоку, вступил ротмистр Борша. Сказал, обращаясь не то к мнимому царевичу, не то к Мнишеку:
— Казаки посад грабят. То опасно, так как может привести к возмущению черниговского люда.
Мнимый царевич со стуком опустил кубок на стол. Лицо его вспыхнуло. Он решительно поднялся, воскликнул:
— Коня! Коня мне!
Поднялся и Мнишек.
— Ясновельможному пану, — заторопился, — не след вмешиваться в это.
Но в Отрепьеве заговорило сдерживаемое раздражение. Лицо его изменилось. Задавленность и угрюмость только что были в нем, но вдруг в чертах проступила такая всепобеждающая уверенность, глаза осветились такой силой, что Мнишек невольно отступил назад. Ему показалось, что не с этим человеком он говорил минуту назад, а вовсе с иным.
Коня подали. Мнимый царевич, с трудом попадая в темноте ногой в стремя, вспрыгнул в седло и поднял коня на дыбы. Поскакал на улицу. За ним с факелами поскакали рыцари Борша.
Пан Мнишек остался на крыльце. Поднял руку ко лбу и отер его. Сказал, ни к кому не обращаясь:
— Н-да…
И еще раз медленно провел рукой по лбу. На лице его были растерянность и удивление.
На посаде поднималось багровое зарево пожара.
Воевода Басманов, узнав о падении Чернигова, спешно развернул отряд и, хотя непогода усилилась, повел его к Новгороду-Северскому.
Он рассчитал так: отступив, отряд сядет за стены крепости и, укрепив ее, встанет заслоном на пути вора.
Басманов вылез из возка и пошел по грязи со стрельцами. Идти было трудно. И ветер, и дождь, и снег, казалось, намеренно сдерживают каждый шаг, но воевода понимал, что теперь важен даже выигранный час, и упорно шел впереди стрельцов. Воротил лицо от ветра, вжимал голову в плечи, но шагал и шагал, бодря стрельцов.
Шубу его уже через полчаса облепило ледяной коркой, воротник стоял колом, сапоги промокли, но он по-прежнему шел впереди стрельцов, и видно было по его решительному шагу, что он готов идти так еще много часов. Стрельцы, поглядывая на воеводу, поспешали, и уже не слышно было ворчливых разговоров, но только дыхание хрипло рвалось изо ртов.
В Новгород-Северский они пришли ночью. Город спал, однако Басманов, подняв с лежанки местного воеводу, велел ударить в колокола и созвать народ. Кто-то из стрельцов, не отыскав пономаря, забрался на колокольню и ухватился за веревку.
Бом! Бом! Бом! — тревожно полетело над городом.
Люди выскакивали из домов на улицы, как на пожар.
Басманов пытал местного воеводу о боевом запасе, о надежности стен крепости.