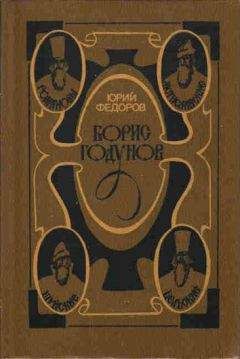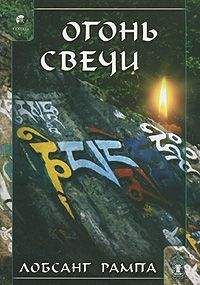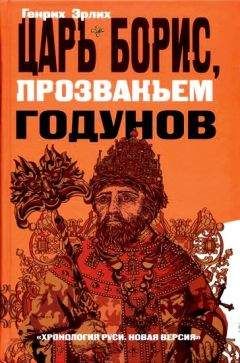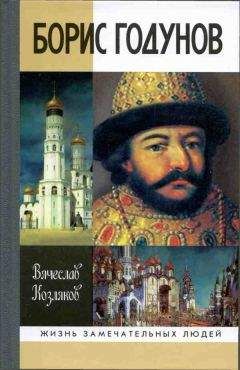Воевода повернулся и вошел в дом.
В этот же вечер на подворье Басманова случилось и другое.
Старый холоп, принимая шубу, неожиданно сказал воеводе, что в дом постучался в отсутствии барина странник, просящий Христовым именем. Его пустили, и сей миг сидит он на кухне с дворней и странные ведет речи. Старому промолчать бы, ан нет вот — брякнул непрошеное. Басманов с удивлением на смелые речи оборотился к холопу. Тот стоял дурак дураком и моргал глазами. Басманов хотел было его прибить, но рука отчего-то не поднялась. Воевода ухватил себя за подбородок, помял вялыми пальцами, и вдруг ему захотелось увидеть странника. Показалось — вот этот-то прохожий, святой человек и прояснит мысли, скажет успокаивающее слово. Уж больно совпало как-то разом: необычные царские речи, тревожные мысли и объявившийся в доме странник.
— Откуда он? — спросил воевода.
— Божьим именем идет из дальних деревень, — заторопился холоп, — не то из-под Ельца, не то из-под Белгорода — поклониться московским святым иконам. Ветхий человек.
— Позови его, — сказал воевода, — проводи ко мне в палату.
Странник оказался не так уж и ветх. Воевода издали услышал, как мужик этот тяжело поднимается по лесенке и ступени под ним скрипят. Войдя в палату, мужик губы выпятил несообразно в рыжей бороденке и оборотился к иконам. Закрестился часто-часто — рука так и летала ото лба к плечам, тыкалась в серый армяк.
Воевода, сидя на лавке подле дышавшей жаром печи, смотрел, выжидая.
Странник к иконам шагнул, поднял руку и заскользил пальцами по окладам. Забормотал невнятное, забулькал горлом. И вдруг явственно воевода разобрал в этом бормотании:
— Увидел, — сказал мужик, — увидел… Скорбь великая, мука мученическая…
Воевода с лавки начал привставать, и тут мужик к нему оборотился.
— Не седлай коня, — сказал твердо, как ежели бы и не он минуту назад бормотал косноязычное… — Иконы плачут…
Из-под косматых бровей вынырнули даже до странного белые, без зрачков, глаза и уперлись в воеводу. Прижали к лавке. И в другой раз странник сказал:
— Не седлай коня!
И тут воевода увидел лапти мужика, крепко стоявшие на желтых промытых половицах. Лапти были липовые, ловкие, недавно надеванные. И мысль неожиданно поразила воеводу: «Так он же из Ельца идет. Как же лапти-то не истоптал?» И воевода, поднимая взгляд от лаптей, оглядел порты мужика, армяк. «Непогодь на дворе, грязи великие, — подумал оторопело, — а на нем ни пятнышка, ни пылинки… Как это может быть?»
Сорвался с лавки, крикнул:
— Вон! Вон!
Застучал каблуками в пол:
— Вон!
Мужика холопы подхватили под руки, поволокли. А воевода все стучал каблуками в разгорающемся гневе. Наконец рухнул на лавку.
Тогда же он понял: напугал его царь Борис, и напугал слабостью своей, сомнениями. Понял и другое: кто-то на Москве — и, видать, не из трусливых — мужика этого, якобы странника из Ельца, к нему, воеводе Басманову, подослал с предупреждением.
Воевода завозился в возке. Никак не мог найти покойного места. За слюдяным оконцем уже стояла чернота, а дождь все сек и сек в кожаный верх. И вдруг в шуме ветра и дробных звуках дождя воевода разобрал торопливые шаги, в оконце ударил пляшущий свет факела, и чья-то рука зашарила по возку, отыскивая дверцу. Дернула. Дверца отворилась.
— Воевода, — сказал голос из темноты, — вор Чернигов взял.
— Как? — вскричал воевода. — Как взял?
И полез из возка. Хватался рукой за ремень над дверцей и, не находя его, опять хватался:
Так же, словно колом по голове, ударили князя Татева слова стрельца Федьки Ярицы. Князь вылез из порохового погреба, где осматривал боевой припас, и увидел: посреди крепостного двора плотная толпа стрельцов, на телеге в рост торчит Федька Ярица. Длинный непомерно, с угластыми плечами и башкой котлом.
— Стрельцы! — кричал он, раздувая горло. — Животы положить хотите? Казаков тьма под крепость подвалила. А за кого вам головы терять? За царя Бориса?
Борода его свирепо торчала колом.
Федьку Ярицу воевода знал. Плохой был стрелец, крикун, пьяница. Пригнали его в Чернигов после розыска по воровству Богдана Бельского в Царево-Борисовой крепости. Многих стрельцов тогда, стоявших в Цареве-Борисове, разослали по дальным рубежам. Подальше от Москвы, чтобы не болтали и не смущали московский люд. Известно, зла в стрельцах было много, и рассудили царевы советчики — послать их подальше, там остынут, а потом видно будет. Вот и Федьку в Чернигов сунули.
— Запустошил русскую землю царь Борис-то… — раздирал рот Федька, мотал космами невесть когда стриженной головы. — В скудельницах под Москвой бессчетно костей лежит… Службой нас, стрельцов, замучил… Замордовал!
— Ах, вор! — выдохнул князь Татев и с исказившимся лицом, выхватив саблю, бросился к Федьке.
Стрельцы раздались в стороны. Князь, бешено расширив глаза, подскочил к телеге, хотел было саблей Федьку достать, но тот ногой саблю у него выбил и кинулся сверху на плечи. Ловкий был, вывертливый; и куда уж рыхлому князю с этим, из одних жил сплетенным, мужиком, было тягаться. Федька насел на него, свалил, придавил к земле. Мосластые руки стрельца потянулись к жирному горлу воеводы. Князь все же, взъярясь, поднялся, обхватил Федьку поперек живота и, наверное, от великой обиды, от невиданного унижения, согнул бы, но его ударили по затылку, и он повалился. Разбросал руки. Стрельцы сгрудились над ним. Федька сгоряча — грудь у него ходуном ходила — пнул воеводу в мягкий бок, плюнул.
— Пес, — сказал, — вот пес! — Крутнул свернутой шеей. — Связать его, стрельцы, да в погреб. Царевичу выдадим.
Князя — мешком — поволокли в погреб. Тут же связали второго воеводу, Шаховского, — этот и саблю выхватить не успел, — и Воронцова-Вельяминова. Всех троих заперли в погребе. Поставили стражу. Воронцов-Вельяминов, когда подступили к нему стрельцы, насмерть застрелил одного и отбивался так зло, что едва с ним справились. Выдирался из-под груды тел, его валили снова, но он опять поднимался. Федька Ярица петлей его захлестнул, и только тогда, полузадушенного, свалили окончательно. Вот каким бесстрашным и яростным оказался дворянин.
Он же, Воронцов-Вельяминов, на другой день, не убоявшись, сказал мнимому царевичу:
— Государем тебя признать? — Выкинул вперед руку, и все увидели сложенные в позорную фигуру три пальца. — Вот, выкуси, расстрига ты, попеныш, собака! — замотал лицом. — У-ух!..
Стоял он посреди крепостного двора с непокрытой головой, в разорванном кафтане, с голой шеей, на которой отчетливо угадывались следы веревки, и ясно было каждому, что ежели бы не казаки, обступившие тесно, то бросился бы он к царевичу и задушил голыми руками.
У мнимого царевича багровые пятна на лице вспыхнули. И ему, знать, кровь в голову ударила. Но он сдерживал себя. Губы закусил. Видать, догадывался, что кровь не водица, прольешь — не вернешь, и цветы на ней растут страшные, пагубные, такие, что всем цветам цветочки, но да вот только пчелка с них мед не берет.
Но Воронцов-Вельяминов тоже не от дури горячей кричал, не оттого, что голову зашибли, а так хотел и обдумал то, хотя и угадывал, чем это грозит, но все одно на своем стоял. По-другому не мог.
— Пес! — рвался дворянин из казачьих рук. — Придет твой час! Слезами кровавыми заплачешь! Быть тебе, собаке, на сворке! Быть!
И такая уверенность была в его словах, такая сила, как ежели бы угадывал он будущее. Вперед заглядывал. Да оно и впрямь сама правда говорила его изломанными в ярости губами.
А ничто так больно не бьет, как правда.
Казаки головы опустили. Не одному, так другому в словах этих страшное объявилось, и оттого головы поникли. Знали — за воровство Москва не щадит. Это в запале, сгоряча можно, конечно, и на воеводу кинуться, вспомнив обиды, саблю поднять. Русский человек, коли шлея под хвост попадет, многое натворить может, а когда задумается, вчерашнее, что так легко деялось, иным для него оборачивается. И здесь мужик начинает упираться. А Воронцов-Вельяминов все бил и бил в самую точку:
— Людей, лукавый, смутил и за то ответишь! Ох ответишь! Да и вы, слепцы, — оглянулся вокруг, — перед царем в ответе будете!
От этих речей стрельцы и казаки и вовсе приуныли. И мнимый царевич это увидел. Мысли его заметались. Но размышлять времени не было: над крепостной площадью, показалось ему, сам воздух уплотнился, навалился тяжестью на головы, на плечи стоящих, и вспышкой в сознании Отрепьева блеснуло: «Бей!»
Он взмахнул рукой.
Атаман Белешко кинулся с крыльца, потянул из ножен шашку. И пока он тянул шашку, обнажая слепящее лезвие, мнимый царевич уразумел: не дворянин, рвавшийся из рук казаков, был ему страшен, но сами казаки, ибо были они и его опорой, и его же смертной опасностью. И не дерзкие слова дворянина, но опущенные казачьи головы напугали его и подняли в страшном приказе руку.