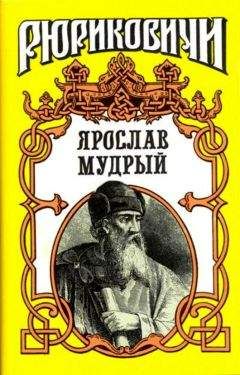Вот так биться, состязаться со всем миром, вечно идти на бой, ибо только тот, кто состязается, только тот прав. А там, где пролилась когда-то его кровь, он и поставит самый большой во всех землях храм, ибо ни единого храма нельзя себе представить без пролитой крови. Никто не станет упрекать, что поставил он собор на крови чужой, — нет, на своей собственной!
— Ну что, — спросил Бурмаку, — боишься давать сдачу?
— Хоть и глуп, да хитрый, — зло промолвил Бурмака, отойдя от князя подальше, и приник к ковшу с медом.
Ярослав поднялся и, прихрамывая, направился к двери, велел Ситнику, который из сеней наблюдал, удивляясь, за князем и его шутом:
— Седлай коней, поедем в Киев.
Ситник разинул было рот, о чем-то хотел спросить, но князь опередил его:
— Помолимся в пути, — сказал так, словно Ситник без молитвы и жить не мог. — Бог молитву к себе примет где угодно, лишь бы сердце было просветленным.
— Ага, так, — моментально согласился Ситник и побежал выполнять княжеское повеление.
Несколько дней ездил Ярослав с многочисленной свитой вокруг Киева. Останавливался на Перевесище, на поле за городом, где надумал соорудить церковь самую большую и славную, чтобы святое место было именно там, где ударили князя копьем в ногу, где пролилась его кровь, принесшая врагу проклятье и разгром. Не годилось, чтобы, храм возвышался вот так за городом, в одиночестве, храму всегда необходимо достойное обрамление, точно так же как драгоценному камню — мастерская оправа. Да и тесен стал Владимиров город, отовсюду под его валами лепились слободы и селения, толпился люд торговый и ремесленный, которому не хватило места на этой стороне; днем все торжища и улицы города наполнялись тысячами заезжих людей, на ночь стража выгоняла всех прочь, но у многих оставались незаконченные дела в городе, они далеко не отъезжали, ютились поблизости, из временных стойбищ и лагерей создавались потом целые селения, много там жило людей ценных, нужных для города, настало уже время взять их под защиту, оградить и их селение; чем больший город, тем больше поместится в нем воев, тем большую дружину может содержать возле себя князь, а значит — меньше опасений перед неожиданными налетами врагов, ибо не следует забывать, что и до сих пор в степях слоняются еще печенеги, а за Днепром — в каких-нибудь трех днях езды от Киева — Мстислав; жить в тесном городе нельзя, строить на открытом месте тоже не годится. Так князь Ярослав пришел к выводу вести вокруг Киева новые валы, укреплять их дубовыми городнями, рыть рвы, ставить крепкие каменные ворота.
Владимиров город весь был на виду. Из княжеского терема можно было охватить взором все: и церкви, и дворы, и торжища. Теперь речь шла о большем. Тут недостаточно было проведения копьем, как это сделал когда-то Константин Великий, показывая, где ставить стены вокруг Константинополя. Ярославов вал должен был опоясать Перевесище, потом идти прямо до самого Копырева конца, оттуда — вдоль кромки горы, пока не соединится с валом Владимировым. Ярослав сам проехал по тем местам, где должен был пролегать вал, всюду его встречало огромное множество люда, — кажется, ни у кого не вызывало восторга намерение князя ставить новые валы, ибо знали, какое это проклятое, длительное и изнурительное дело; молча стояли, смотрели на богатых всадников, уступали дорогу, долго смотрели им вслед, и тяжелые взгляды эти ощущали на себе все, кто сопровождал князя. Бурмака тащился на осле следом за цепью всадников, кричал издали, обращаясь к Ярославу:
— От кого заслоняешься? От брата родного?
На Копырев конец князь и не думал тянуть валы, потому что было далеко, да и город многое утрачивал в своих очертаниях, вытягивался неоправданно в один конец узким клином. Но вышли ему навстречу богатые агарянские купцы с Копырева конца, вышли армянские ремесленники и врачи, вышли жидовины с щедрыми дарами, встали на колени перед князем, умоляли, чтобы взял он их в свой город с их домами, женами, детьми, ибо уже много лет провели они здесь, под Киевом, поменяли свои родные земли на эту землю, полюбили ее, верно служили князю Владимиру, хотят служить и ему, Ярославу.
Ярослав улыбнулся, велел брать дары, обещал копырянам оградить валом и их, сказал, словно бы хотел оправдать свою жадность:
— Деньги у людей — что вода, разлитая, расплесканная. Кому-то надо собрать воедино, чтобы построить храм великий. А кому же, как не князю!
Бояре качали головами: да, да. А Бурмака сзади восклицал злорадно:
— Не наберешься ты, княже, с этими дарами на свое строительство! Вели скорее дань собирать! Да пусть собирают днем и ночью в великой спешке и без недобора!
Услышав о княжеском объезде, выползали из подольских яров и останавливались на кручах молчаливые кожевники, быстроглазые гончары, кузнецы по железу и меди, шабельники, котельники, роговники, скорняки, сидельники, лучники, кушниры, выходили из яров, видно, оставив только что свои работы, задымленные и запыленные, длинноусые, с бритыми бородами (еще не дошел до них ромейский обычай выращивать круглые бородки), эти даров не выносили, не просили оградить валом и их хижины, ибо все равно грабить там нечего, да и чувствовал себя человек вне валов как-то вольнее, легче дышалось, когда ты был подальше от князя, а князь от тебя.
Стояли у самого обрыва, с вызовом смотрели на князя и его холуев, ни приветственных возгласов, ни радостных улыбок на лицах, — холодная отчужденность и полное непонимание высоких государственных интересов, как и у придурковатого Бурмаки, который болтается сзади на осле и выкрикивает хулу на князя.
Ярослав ехал выпрямившись, гордо, холодно щурил свои умные, глубокие глаза. Вот так он идет сквозь жизнь и будет идти до конца — и всегда ему вечный вызов со всех сторон. Вечно должен заботиться о боевой мощи и защите. Эти кожевники и кузнецы не думает про державу. Не способны. И хлебороб, сеющий рожь и просо, тоже не способен. Поэтому пусть молча кормит тех, кто может позаботиться о его безопасности.
А ты верши задуманное!
Простой люд равнодушен к власти. Она ему ни к чему. Он бы и государственного единства и независимости не имел, если бы не князь. Так пусть же будет благодарен князю. Не князь будет благодарить кого-то там за напитки и яства, а пусть люди благодарят князя. Поучать их об этом денно и нощно.
Верши задуманное!
Чем большая земля, тем больше в ней беспорядка, смуты и безответственности. Устранить их может только сильный человек, который не знает страха ни перед кем и не нуждается в подсказках. Священники пусть уговаривают толпу, а князь знает все сам.
Верши задуманное!
Каждая земля позволяет себе какие-то излишества: то попов, то воев, то священных животных, то купцов, то холуев. Кто не хочет работать днем и ночью, должен стать либо проповедником, либо льстецом. Льстец — это нечто среднее между человеком, который кое-что знает, и дураком. Князь должен всю жизнь вертеться между такими холуями и лизоблюдами, как те, которые едут следом за ним, и между людьми, которые умеют что-то делать и делают молча и терпеливо. Должен пройти между ними осторожно и гордо, никого не поддерживая, никому не помогая. Если поможешь кому-то, один будет благодарен, а сто — недовольных. Если же причинишь зло одному, то недоволен будет только один, а сто будут радоваться, ибо у каждого непременно найдется сотня врагов.
Верши задуманное!
Дела твои должны быть огромными даже и тогда, когда и злодеяния огромны. В истории каждой земли есть изрядное число страниц позорных и жестоких. Кроме твоей земли. Ежели и был у нас когда-нибудь позор или жестокость, их надлежит предать забвению. А тому, кто потщится вспоминать об этом, надобно отбить охоту.
Верши задуманное!
…и уста усобица и мятеж и бысть
тишина велика в земли.
Летопись Несторао новости дела вмешиваться не буду, — так сказал тогда князь, принимая их в теремных сенях, где имел обыкновение принимать всех подданных, а со временем приспособился вести переговоры там и с иноземными послами, чтобы показать превосходство своей земли над всеми остальными, но послы, кажется, так и не понимали, что и к чему, ибо княжий терем был вельми запутанным в своих переходах, приходилось пересекать несколько сеней, в одних стояла большая стража, в других горели свечи перед сверкающими золотом иконами, третьи сени назывались кожуховыми, потому что там следовало оставлять верхнюю одежду — кожухи, корзна, тяжелые плащи, затем ступеньки — одни и еще одни — и просторное помещение: резное дерево, золотые и серебряные украшения, застланные невиданными мехами дубовые скамьи, окованный чеканным золотом княжий стол, высокая, сделанная умелым дуборезом из сплошного куска дерева подставка, на которой лежит развернутая пергаментная книга в драгоценном окладе, еще несколько книг, дивно украшенных, лежат на ярко разрисованном сундуке рядом с княжьим столом, — такого не увидишь нигде- ни у ромейского, ни у германского императоров, ни у восточных владык, ни у французского короля, ни у ярлов варяжских.