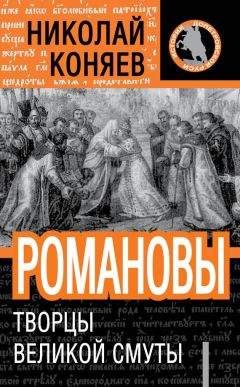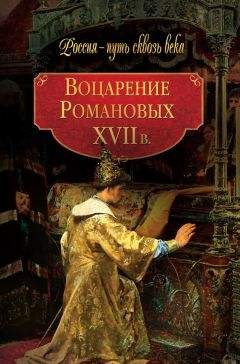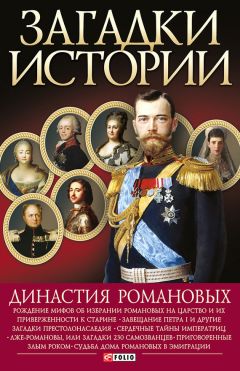Голос царя оборвался. Он тяжело вздохнул, замолчал и закрыл глаза. В опочивальне сделалась полная, глубокая тишина, даже царица остановила свои рыдания. Чувствовалось надо всеми нечто торжественное и таинственное, будто дуновение иного мира пронеслось…
Вечер быстро надвигался, темнота сгущалась, все ярче и ярче загорались огоньки лампад перед образами, и долго все оставались в этой торжественной тишине, не шевелясь, не замечая времени.
Царь то лежал неподвижно, то начинал стонать. На него находило забытье, и ему представлялось что-то светлое, но неясное и хотелось разглядеть и никак разглядеть того было невозможно. Вот он совсем перестал сознавать действительность, забыл о том, что его окружают близкие люди. Ему казалось, что он один, совсем один, среди невозмутимой тишины, и вспомнилась вся жизнь ему от самого детства. Снова переживал он все радостные и печальные события этой жизни. А время шло…
Наступило два часа ночи. Очнулся Михаил Федорович, и будто какой-то голос, ясный и знакомый, шепнул: «Пора! Пришло!» Он открыл глаза, взглянул на патриарха и прошептал:
— Отхожу, желаю исповедаться и приобщиться святых тайн…
Его желание было тотчас же исполнено…
Приняв святые дары, он совсем успокоился. Лицо его теперь не выражало никакого страдания, оно будто просветлело. Еще несколько минут — только глубокий, тяжкий вздох показал, что все кончено…
Несмотря на теплую, ясную летнюю погоду, тишина и уныние царили в Кремле и вокруг Кремля.
Давно уже московские жители унылым звоном колоколов были извещены о переселении в вечность благочестивого государя царя и великого князя Михаила Федоровича, давно уж в тяжелом, дубовом гробу, покрытом червчатым бархатом и драгоценною парчою, стояло царское тело в дворцовой церкви.
Церковные дьяки денно и нощно читали у гроба псалтырь с молитвами.
По всем городам, монастырям и церквам разосланы были гонцы с приказом чинить по царе шестинедельное поминание. В города к митрополитам, архиепископам, епископам, в монастыри — к архимандритам и к игуменам отправил патриарх грамоты с приказом быть на Москву к царскому погребению не медля часу. Но пока соберутся все, пройдет еще немало времени.
К концу первой недели наглухо закрыли гроб царский… Все происходило так, как повелось исстари.
На третий день после кончины царя в царских палатах был на патриарха, ближних бояр и духовенство поминальный стол, во время которого отпевали панафиду[132] над кутьею.
Через три недели был другой, такой же поминальный стол, и вот начали съезжаться со всех сторон к царскому погребению оповещенные лица.
Ночь царского погребения — так как, по обычаю, царей хоронили в ночное время — была назначена. Уже с вечера бесчисленные толпы московских людей со всех концов города стремились к Кремлю; множество было и приезжего из городов и из уездов люда.
Площадь, залитая народом, изо всех сил старавшимся пробиться вперед, поближе к пути от царского дворца до Архангельского собора, представляла необычайное зрелище.
В тишине безлунной, звездной ночи эти многие тысячи людей, тесно прижатых друг к другу, являлись каким-то громадным, бесформенным, копошащимся существом, таинственным и страшным. Глухой гул, исходивший от этого существа, имел в себе что-то зловещее.
Еще до выноса царского тела было далеко, а уже гудевшее таинственное существо начало поедать само себя. То здесь, то там раздавались отчаянные вопли и крики; люди мяли и давили друг друга. Проникшие в толпу воры и душегубцы, пользуясь в темноте всеобщей растерянностью и необыкновенной теснотою, нагло обирали своих соседей, а в случае чего давили их и душили. Стрельцы, обязанные следить за порядком, ничего не могли сделать, и только самих себя оберегали.
Наконец заунывные звуки колоколов возвестили, что царский гроб поднят из дворцовой церкви, и шествие тронулось. Толпа присмирела и затихла.
В теплом, безветренном ночном воздухе доносилось издали церковное пение; запылали бесчисленные свечи в руках идущих. Показались сначала, в траурном облачении, диаконы, попы, певчие дьяки. Вот и гроб царский, несомый духовенством. Позади идут: патриарх, юный царь Алексей Михайлович, бояре, за ними ведут царицу, за царицей царевны, боярыни и боярышни, все в черном, потом все население царского дворца и терема, мужчины и женщины вместе, без чину, тоже все в черном, с громкими воплями и рыданиями.
Ярко горят факелы по обеим сторонам широкого пути, оставленного для печального шествия, за этими факелами вплотную — стрельцы, стражники, едва сдерживающие напор бесчисленной толпы.
Медленно, шаг за шагом, продвигается шествие. Стоящие в первом ряду за стрельцами, стиснутые, сдавленные люди почти не могут дышать, но зато хорошо видят.
Почти у самого входа в Архангельский собор, рядом со стражниками, озаренная светом факелов группа — несколько человек в иноземной, воинской одежде. Впереди всех выделяется стройная, красивая фигура королевича Вольдемара. Не просил и не хотел он участвовать в шествии, но потребовал, чтобы его с ближними к нему людьми пропустили к собору — посмотреть на перенесение царского тела.
Ввиду настоятельности его требований и соображений ближних бояр о том, что теперь, по кончине царя, неведомо еще что будет, как повернется королевичево дело, ему было разрешено занять место у собора.
Стоит он, гордый и красивый, с побледневшим лицом и сверкающими глазами, опираясь на рукоятку шпаги. Блестит и искрится при свете огня его дорогая одежда, горят алмазы, яхонты и рубины тяжелой цепи, надетой поверх всего на его шее; тихо колышутся большие страусовые перья над его головою.
Уж диаконы и певчие дьяки вошли в собор и оглашают его своды звуками канона.
Вот тяжелый, закрытый гроб царский. Глаза королевича мрачно сверкнули; невольное злобное чувство изобразилось на лице его. Не может он побороть этого чувства, ради этого чувства он здесь. Кипит его сердце, вихрь мыслей проносится в голове его.
«Так вот что от тебя осталось, мой мучитель! — думается ему. — Не встанешь ты теперь из этого гроба, чтобы терзать меня. Что я тебе сделал? За что ты надругался надо мною? За что превратил в тяжелую, позорную неволю лучшее время моей жизни?»
Но вдруг на него как бы пахнуло дыхание смерти. Он вздрогнул, и глаза его опустились. Наполнявшая его ненависть мгновенно замерла, и откуда-то, из глубины сердца, поднялось совсем иное чувство.
Ему вспомнилось доброе, ласковое лицо царя в первое свидание, потом вспомнилось это же лицо, такое печальное и страдающее, вспомнились глубокие царские вздохи в ответ на его твердость, на его доказательства и уверения в том, что он, королевич, не может отступиться от своей веры, и если царь не желает исполнить подписанного им договора, то он требует честного отпуска. Показалось Вольдемару, будто он снова услышал этот глубокий вздох, будто вздох этот несся от гроба, — и он внезапно понял то, по-видимому, непостижимое противоречие, которое было виною всех полученных им на Москве оскорблений и его долгой возмутительной неволи.
«Он не мог! — сказал себе королевич. — Пусть Бог простит ему… и я прощаю!…»
Он низко наклонил голову перед царским гробом, и как-то тихо и грустно сделалось в его сердце.
Когда он поднял глаза, перед ним была закутанная в черное женская фигура, которую две такие же фигуры вели под руки. Сзади себя он расслышал чей-то голос, говоривший:
— Это царица! Ишь, бедная, убивается! Сама больно недужна, наживет недолго!…
А это кто? Кто глядит на него, на королевича, из-под черного покрывала?
Он еще не успел сообразить и понять, как мучительный женский крик огласил воздух — и стройная, закутанная в черное одеяние фигура упала без чувств на руки окружавших.
Все могла вынести царевна Ирина — только не эту неожиданную встречу.
С тех пор как пропала Маша, с тех первых дней вечного волнения, тревоги и ожидания, царевна как бы перестала жить. Она даже известие о кончине отца встретила будто в бреду, не поняв хорошенько его значения. Она громко плакала и рыдала, но делала это машинально и не давала себе никакого отчета в новом постигшем ее горе. Она приходила к больной матери, которая только и говорила теперь о смерти, слушала ее и оставалась безучастною, будто камень лежал у нее на сердце.
Даже молитва не шла на ум. Подолгу стояла на коленях перед киотом с образами, клала земные поклоны, шептала слова молитвы, но не находила в этом прежней отрады, не лились слезы, облегчавшие страдания, да и страданий как будто уже не было. Камень лежал на сердце, давил — и только.
Время от времени она справлялась, не слышно ли что-нибудь о Маше? Не нашли ли ее? Но и это делала она почти машинально. Кажется, явись теперь Маша перед нею — и ей будет все равно. Ей казалось, да и не то что казалось, а она была совсем уверена в этом, что жизнь ее кончена, все прошло, навсегда исчезло все, чем жила она до сих пор.