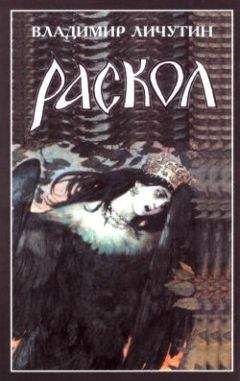Припозднясь, царь лег опочивать, и вдруг приснились ему новые хоромы с башенками, галдареями и висячими крыльцами, со стрельчатыми оконницами; еще стружкой пахло, рыбьим клеем и свежей сосною, до блеска отглаженной теслом. Царь обрадовался терему, но и удивился: откуда взялась стройка? давно ли заехал в Измайловский дворец, и сейчас затевать еще одну усадьбу было не с руки. И тут на высокое крыльцо вышел прежний духовник, архимарит Саввино-Сторожевского монастыря Никанор, теперешний голова воровской соловецкой смуты. Рудо-желтой шапки не сломал перед государем, а поджидал его наверху, сурово стянув губы в нитку. Царь взглянул в его глаза и поразился неизмеримой глубине боли и тоски; он о чем-то мысленно спросил архимарита, боясь вслух сказать вопрос, Никанор расслышал его сердцем и кивнул…
Тут Алексей Михайлович, устрашившись известию, пересилил сон с бьющимся сердцем. Очнулся он в мокрых простынях, будто только что искупался в мыленке, а вот обтереться досуха позабыл. Ноги закоченели, и опухоль подступила к самым лядвиям. Попросил себя одеть, с трудом перешел в креслице, укутался в волчью доху, к плюснам подложили серебряный шар с горячей водою; едва согрелся и стал умирать.
Новые хоромы приснились к смерти, и государь понял, что от этой скорби нынче не убежать. Он стал вспоминать, кого обидел, может, от них и пришел черный напуск; попросил прощения у близких, велел послать свояку Стрешневу рыбу белугу в пуд, настольные часы с боем и сорок соболей; отвезти Никону в Ферапонтово посылку с милостью; дворцовым нищим раздать по пятиалтынному; отнести в подачу тюремным сидельцам по куску говяды жареной, кружке пива и бараньей шубе. Пригласил патриарха Иоакима и высказал тайную волю: на государево место благословляет сына Федора, а пока отрок не войдет в лета, дядькою над ним определяет князя Юрью Долгорукого. И хотя объявил главное решение и душою верно знал, что скоро не станет его в животе, но ясный ум противился безвременному уходу…
Патриарх соборовал государя, утешил всяко – не полегчало; из своих рук поил рыгаловкой и боговым маслом, кадил и спрыскивал святой Богоявленской водою; ставил пред иконою Николая Угодника церковную свечу в государский рост; отчитывал врачевательными молитвами по Большому Требнику, – и снова не обошлось. Тогда взялись за дело дохтура Костериус и Стефан Симонов, стали лечить от холодных вод, от внутренней сырости, от той самой родовой болезни, от которой в свое время скончался Михаил Федорович. В царской аптеке составлялись по рецептам снадобья, и, прежде чем подать больному, отведывал их лекарь, потом начальник Аптекарского приказа боярин Артемон Матвеев, после дядьки государевы бояре Федор Куракин и Иван Милославский, только затем давали выпить царю, а остатки лекарства доканчивал опять же боярин Матвеев в глазах государя.
За день-другой до смерти Алексей Михайлович затосковал, начались в животе рези, царю казалось, что в утробу вселились бесы и давай пилить мяса и дробить кости. От нестерпимой боли царь беспрерывно кричал: «Господи, помилуй мя грешного, смилуйся надо мною за мои грехи, забери к себе». Дядьки склонились над умирающим, домогались: «Батюшко государь, скажи, что тебя так томит?» И немеющим языком Алексей Михайлович едва выдавил: «Старцы вопят соловецкие… Шлите гонца. Пусть войско отступит».
Государь забылся, и тут ему вновь привиделся давний сон, которого он, наверное, не помнил обычной памятью, но отпечаток, слепок его с той старинной картины, оказывается, неиссякновенно хранился в душе.
… Вот Алексей Михайлович бежит по солнечному лугу от настигающей беды; ему страшно оглянуться, но царь незнаемо уведомлен, что настал конец света, и он, государь московский, остался один на миру, и ему зачем-то надо спастись. Но с каждым шагом позади как бы обламывался в бездну, искрашивался цветущий луг, укорачивался, исходил в пепел и сернистый пар, и царь чуял, как поджаривает пятки судным огнем, а подошвы сапожонок истлевают на плюснах. И страшно было оглянуться, чтобы встретить глазами последний час мира, ибо кто оглянулись, тут же и испарились. Внезапно перед государем выросла каменная стена, уходящая в пустынное занебесье, по ней вилась тонкою паутиной черная шаткая лестница. И только царь вознамерился ступить на перекладину, как вдруг оттолкнул его неведомо откуда взявшийся раб, иль смерд, иль холоп, иль чужеземец в долгом кафтане, с развевающимися по ветру засаленными волосами; наморщенный войлочный колпак едва прикрывал темя. Беглец мельком оглянулся, и презрение выказалось в черных влажных глазах. И тут же, не мешкая, человек полез лестницей вверх; перед глазами царя замелькали стоптанные, с истертыми гвоздями подочвы. Каменная пыль сыпалась в лицо государю, он тщетно уворачивался, прятал глаза, чтобы не ослепнуть. Торопясь, они понимали, что там, с облома стены, откроется им иной, новый мир, где ждет их спасение. Неведомый челядинник первым достиг верха, одной ногой ступил на площадку, а другою оперся на плечо царя и, воздев руки в кроваво-мглистое небо, вскричал победно: «О, Ие-го-ва!»
И тут царь понял, что настал его последний час; едва удерживаясь за поручи, взмолился он: «Господи, помилуй и спаси!»
И Некто, весь осиянный, в белых ризах, протянул руку, чтобы поддержать государя, помочь миновать переграду; Алексей Михайлович почувствовал это ободрительное, ласковое прикосновение и сразу обрадел душою, и сердце его исполнилось счастия. Но тот решительный злодей, чья нога пригнетала плечо государя, вдруг превратился в черного зловещего врана, и, закогтив смертельно русского царя, он соскочил со стены и повлек несчастного в клубящуюся бездну.
И Алексей Михайлович завис меж небом и землею, раздираемый наполы, и ничья сила не могла взять верх. Каждая косточка трещала, и каждая мясинка верещала от невыносимой боли.
«Отпустите меня, отпустите, Гос-по-да ради!» – взмолился, очнувшись, государь. И тут пошла и ртом, и носом, и ушами всякая смрадная скверна, и не успевали хлопчатой бумаги напасти, затыкая.
Преставился государь 29 января в четвертом часу ночи в день Страшного Суда.
Недолго отдыхал воевода.
Имея от государя власть казнить и миловать, Мещеринов тем же днем взялся за суд. От монастыря в стан за Святое озеро под жестокой стражею потянулся народишко на расправу, звеня цепями. Тучное воронье сумятилось над обителью, провожая несчастных зловещим крехтаньем; сыпал с небес легкий сухой снег, одевая монахов в светлые брачные ризы. Еще ни разу за долгие годы с древних Савватиевых времен от начала монастыря столько народу сразу не отправлялось на венчание со смертью. Чернцы, что покрепче, шли вольно, пели торжественные псалмы; изнеможенные старцы, сомлелые от поститвы, едва ползли, опираясь на батожок; иные, с Исусовой молитвой на устах, подпирали плечом особенно немощных и скорбных; окованные же цепями, взявшись друг за дружку, тащились за вожатаем, как артель калик перехожих, и в лад тоскующим юзам тянули песню нищей братии; беглые из разиновцев, уцелевшие в короткой стычке, непрестанно бранились, скрипели зубами и спосылывали на всех проклятия. Январская дорога после ночной метели была плотно уставлена сугробами, зимние скуфьи и овчинные треухи то выныривали, то упрятывались за снежными гривами о край озера, словно бы мятежники, пользуясь ранними сумерками, украдкой сметывались с острова; и лишь полярной сове, вылетевшей на трапезу, виден был этот длинный стреноженный табун невольных людей.
Тем временем стрельцы прибирали крепость, выкидывали убиенных за стены в ров у Корожной башни, наполовину заметенный, занимали опустевшие кельи, припрятывали в свои кошули то добро, что находили в монашьем житьишке, по праву победителей считая его своим; а не брезговали они всем, что попадало под руку в клетях, и кладовых, и старческих чуланах, и укладках, от валяных калишек, в чем бродить по дому, до деревянной миски и кашного котла. Стрельцы словно бы уже верно знали, что святые насельщики не вернутся назад, и приготовлялись в этих каморах коротать до весны.
… А на стану горел костер, пленных согнали вокруг него в груд, но не было в несчастной толпе плачущих и стенающих, взывающих о милости; и то, что монахи неизбежное грядущее встречали с легкостью, без страха, особенно смущало караульных стрельцов, для кого воинское лихо, да и сама смерть были за обыкновение. Казнили-то мятежников за строптивость, но и самим стрельцам была наука: де, не станет прежней воли, прощаться надо с прежней жизнью и норовом. Родичи старались в ту сторону не глядеть, чтобы не поймать умоляющий взгляд, зажимали сердце, как бы кто из десятников иль сотников случайно не поймали тайного сговора иль близкого свойства, ибо тогда от воеводы не отвертеться, потащит на допрос и встряску, а после в разбойный приказ под суд.