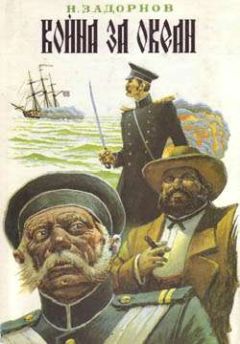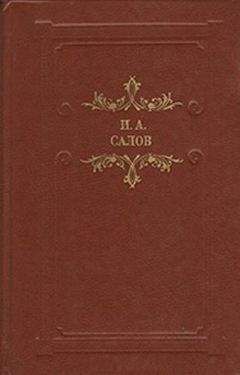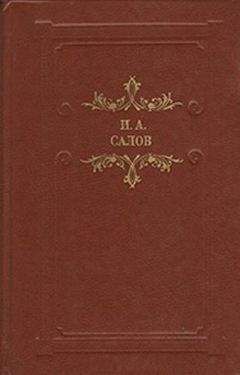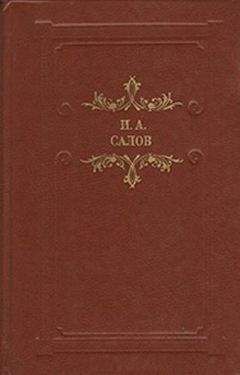Офицер мог послать матроса на смерть, поставить под пули и ядра и приказать не прятаться, мог покарать его, выпороть или посадить в карцер, отдать под суд, заставить исполнять любую тяжелую работу. Но никто не смел нарушать традиций, сложившихся на корабле, или пытаться изменять привычки экипажа, хотя это и не оговорено никаким законом.
Матрос готов был отвечать своей жизнью, кровью и боками только за то, на что он нанялся, продал себя.
Но никто не смел посягать на обычаи экипажа: всегда должно подаваться то, к чему матрос привык. И если бы повар задумал изменить сложившиеся традиции, то так или иначе матросы нашли бы способы подействовать на него. Если бы лицо, ведающее хозяйством, задумало бы урезать у матросов что-то от их стола, то есть обворовать их более, чем обычно, или, имея возможность позаботиться, как всегда, пренебрегло бы своими обязанностями, вспыхнул бы бунт, и тут не помогла бы никакая порка, даже расстрел.
Несмотря на строгие законы, никто не мог запретить матросу грабить на берегу, после победы, когда город занят, но грабить умело, не позоря чести корабля. Про убийство мирных жителей никто не говорит, это дело зависит от общего настроения после боя, еще от вкуса и характера каждого в отдельности и как позволяет совесть и вынуждают обстоятельства. Ведь матрос и сам всегда может быть убит из-за угла, с этим приходится считаться. Битва ведь разжигает. Но излишние жестокости не делают чести. Насилия также, это унизительно, хотя если все сделано чисто, никто не донесет.
Существуют целые легенды о благородных подвигах офицеров и матросов именно этого корабля. Существуют рассказы попроще, но тоже очень занимательные, о посещениях кабаков, о встречах с публичными девками и о драках.
Но на «Президенте», например, по традиции экипаж не переносит офицеров, которые кричат. Крикунам оказывается молчаливое, но единодушное сопротивление. Приказания должны быть отданы вежливо. В противном случае они исполнялись, но с таким видом, как будто матросы — сыновья лордов, а офицер — парвеню. Крикун наконец понимал, что его ненавидят, а это всегда и везде опасно.
— Ну, черт возьми, это не война! — заявил Пити Херт, что означает «жалостливое сердце», возвратясь в кубрик.
Все тяжело дышали и еще не могли прийти в себя после разгрома. Своих убитых только что стащили в мертвушку, а раненых — в лазарет. Раненные легко тут же их сами перевязывали, доктору некогда. Что у него делается! Там пилят пилой кости, и человек терпит, позеленев от боли и ужаса.
— Туда надо было послать попов, а не матросов, — продолжает Сердобольный.
— Да, это я тоже заметил, что тут дело нечисто и было какое-то колдовство! — серьезно и с возмущением сказал Джон. — Не могло быть, чтобы русские нас разбили!
— Русские — христиане? Ты не знаешь? — спросил кто-то.
— Черт их побери! — отвечал раненный в ногу.
— Явно тут нечистая сила! — продолжал худой и долговязый.
— Вот это верно! — подхватил молоденький матрос. — Я не знаю как, но в самый нужный момент так получилось, что у меня исчезло ружье.
— Ты, парень, шутишь! — оборвал его матрос постарше. — Или ты из молодых, да ранний?
— А где твое ружье? Что же, ты сам его потерял?
— Я бросил свое в воду, и оно не достанется врагу. Я не мог плыть. А ты бежал с пустыми руками.
— Что спорить? Явное колдовство! Я сам видел ведьму и хотел ее подстрелить. В руках у нее был горшок в тряпке. Полагая, что это леди, я бил по ногам, кажется, прорешетил ей всю юбку, но ей хоть бы что!
— А мы стали отстреливаться, когда на нас бежали русские, — говорил согнувшийся белокурый матрос, перевязывавший ногу товарища, — и вдруг все переменилось. Оказывается, на нас бегут свои, в красных мундирах, и они стали нас же колоть. Это так поразило нас, что мы бросились бежать.
— Вот видите, — подхватил Сердобольный.
— Это глупости!
— Какие глупости, — вмешался в разговор старый матрос, — когда мне все время кто-то заворачивал дуло, когда я целился. Это бывает, есть такие места, говорят, на Мадагаскаре.
— Мне тоже не понравилось тут с самого начала, когда еще подходили. Кажется, сам черт раскинул шатры на этой Камчатке.
— Мне еще один американец все это предсказывал во Фриско и уверял, что лучше не ходить, хорошего ничего не получится. Но я ответил, что все-таки пойду, — говорил Сердобольный с таким видом, словно он был капитаном «Президента» и все решал.
— Что же ты, отдал бы приказание.
— Да, по рождению я должен быть в больших чинах, если бы не клевета, которой я до сих пор не могу опровергнуть!
— Еще наши тупые и безмозглые офицеры! Совсем не так надо было!
Джон очень сожалел о товарищах и о корабле. Так обидно и жалко свой экипаж и свой фрегат! На палубе лужи крови, она пробита в нескольких местах. У борта все обгорело, есть пробоины. А какой был красавец фрегат! Как, бывало, всех других превосходил он…
Джон — дельный, толковый, грамотный. Он работал на фабрике, пожелал видеть свет, уж слишком был сильный, красивый и способный ко всему, жаль было похоронить себя навеки в угольной пыли!
На флоте не оказалось того, что обещали на своих картинах вербовщики. Там матросу сулили путешествия, веселую жизнь с бокалом в руке и с девицей на коленях! О нет! Вместо девиц какие-то стервы, которые обгрызают тебя, как волчицы. Понемногу Джон свыкся, втянулся в службу. У него был престиж в матросском обществе. Но тяжела служба. Да еще вдобавок такой разгром, когда из истории известно, что английский флот не терпел поражений и не может быть разбит. Как все это случилось? Столько мертвых, переломанных костей, крови, порчи судов, погибших, потерянных хороших вещей! Знамя потеряли! Паркер убит. А почему Прайс застрелился? Явная чертовщина.
Общественное мнение определенно говорит, что воевать тут больше нечего, да и не из-за чего. Там нет ничего у них в городе. Какие там меха? Нечего воевать с ведьмами и нечистой силой. Пусть лезут в десант попы и офицеры. Пастор что-то объяснял после боя, но его слушать никто не хотел, и все проходили мимо. Поздно он спохватился! Это предатель, а не пастор! Да еще надо приниматься за работу, все исправлять, доков здесь нет, а русские могут совсем переломать все, если офицеры столь глупы! Некогда слушать басни!
Завойко приказал явиться к себе попу и дьякону и задал им «распеканцию».
— Я сам молился о ниспослании победы и благодарю бога, что он услышал молитвы, но запрещаю вам объяснять победу тем, что впереди стрелковых партий летели ангелы. И это я говорю вам потому, что этого не может быть, и еще потому, что враг потерял шестьсот человек, а мы триста, и не можем убрать убитых, которые повсюду, и их надо хоронить с почестями, как подобает героям, и, не глумясь над телами врагов, с честью похоронить их! Значит, у врага еще есть много войска и мы должны ждать третьего приступа. И солдат должен надеяться на себя и на свою силу и верить в бога, но не рассчитывать, что вылетит из-за сопки ангел и поразит того, кого он сам должен застрелить или заколоть штыком.
Собраны были все брошенные противником штуцера и патроны к ним. Наутро нашлись охотники, которые ныряли в воду и смотрели, где же утопленные ружья. Некоторые доставали штуцера, а один — офицерскую саблю, выброшенную в воду вместе с сумкой и мундиром.
С утра съезжались вдовы и дети убитых из деревень Коряки и Авача. Всюду слышались рыдания, вопли.
Маркешка стоял на часах у лагеря.
На вражеской эскадре спозаранку стук — починяются. У нас к вечеру под Никольской сопкой выросло два холма братских могил.
На четвертый день утром на эскадре подняли паруса, и один за другим корабли стали уходить в ворота.
— Не стрелять! — приказал Завойко. — Пусть спокойно уходят…
В городе молебен. Завойко снова держал речь. На другой день похоронили князя Максутова.
Заговорили про награды. Но про Маркешку никто не вспомнил. Он и сам стал думать, что не он попал в адмиральский фрегат. Маркешка был счастлив, как каждый, кто сегодня жив и рад исходу дела: «Да и кто я? Гуран и гуран! Все мы гураны!»
Спорят, кто отличился, кто убил, кто попал во фрегат. Да не все равно кто? Сейчас уж, право, все равно. Горы мертвых и своих и чужих… А врагу не удалось… Так думал Маркешка, глядя вслед уходившим кораблям.
Завойко хвалил аврорцев и говорил их капитану, лысому толстяку, которому в бою ничего не сделалось, что напишет государю и попросит всем наград.
Маркешка даже прослезился. Алексей тоже доволен. Аврорцы — ребята видные и бывалые, им стоит дать награды! Они помогли. На сопке уже было совсем плохо, как они набежали и вызволили из беды.
Забайкальцы восторгались. Но об их геройстве Завойко не упомянул ни в одном из рапортов. Он сделал это из своих соображений. Во-первых, потому, что они плыли по Амуру, который открыт Невельским, и прислал их Муравьев, которого он терпеть не может. И еще много разных соображений.