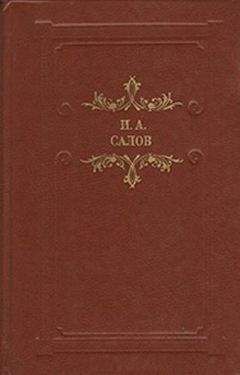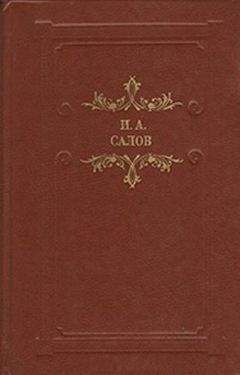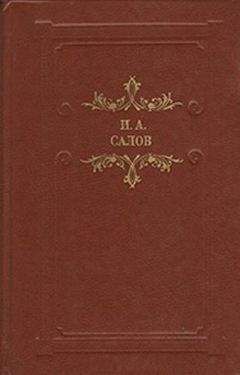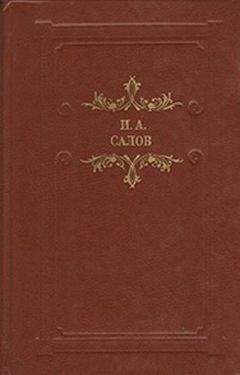Зла беда, — не буря:
Горами качает,
Ходит невидимкой,
Губит без разбору.
От ее напасти
Не уйти на лыжах:
В чистом поле найдет,
В темном лесе сыщет…[1]
Кольцов
Медленно ступала подо мною лошадь по пыльной дороге, ведущей в сельцо Комаровку, через которое мне необходимо было проехать, чтобы попасть к себе домой. Повесив, вместе с поводами, на переднюю луку седла картуз, я сидел и едва дышал от жара. Ноги, выдернутые из стремян, болтались туда и сюда, руки тоже, а глаза утомленно блуждали по полю, вспаханному под рожь и по поверхности которого от сильного жара дрожали и бежали так называемые «полуденки». И ни малейшего ветерка, ни малейшей жизни в природе! Все как будто замерло и закалилось от пыли и жгучих лучей солнца. Даже птицы и те куда-то попрятались, и на всем поле виднелся только один громадный коршун, да и тот сидел, опустив крылья и разинув клюв. Где-то далеко слышался не то какой-то вопль, не то какое-то пение… Я обернулся, посмотрел в ту сторону и увидал толпу народа… блестели позолоченные образа, виднелись красные хоругви, поп в парчовой ризе, а дьячки пели: «Даждь дождь земле жаждущей!» — толпа стояла на коленях, молилась, а жаркое, словно медное, и безоблачное небо парило лучами солнца…
Шагах в десяти передо мною тащился мужичок, ничком лежа в пустой тележонке, и лениво похлопывал вожжами свою клячу… Вдруг сзади послышался колокольчик… Я обернулся и увидал догонявшую меня тройку. Тройка мчалась быстро, и целое облако пыли следовало за нею. Однако тарантас как будто знакомый, да и толстый мужчина в форменном картузе с черным бархатным околышем, фертом сидящий на груде подушек, тоже как будто всматривается в меня… Я даже вижу, что он приложил руку ко лбу в виде козырька и словно силится узнать меня… Мужичок поспешно своротил прямо в канаву и сбросил шапку.
— Кто это? — спросил я.
— Становой[2].
И в самом деле, это был Петр Николаевич Рычев. наш становой пристав.
— Куда? — крикнул он, поравнявшись.
— Домой. А вы?
— В Комаровку, на мертвое тело.
И затем, быстро повернувшись, прибавил:
— Знаете что! Садитесь-ка со мною да поедемте следствие производить…
— Я-то при чем тут!
— Ну, посмотрите…
— Нет, жарко…
— А вот жар-то тем временем и схлынет! И поедете вы домой по холодку, любёхонько, тихохонько, за милую душу!.. А у меня кстати балычок есть осетровый да белорыбица провесная[3], у одного купца сейчас прямо из кастрюли вытащил, и мы с вами такую сочиним ботвиньку[4] с огурчиками, да с лучком, да с укропцем, да льду туда побольше… Пальчики оближете!..
И все это становой проговорил так смачно, так аппетитно, что я невольно начал соблазняться. Он заметил это и, быстро освободив место рядом с собой, крикнул:
— Ну, садитесь же!
— А куда же я лощадь-то дену?
— А рассыльный зачем! сядет и поедет.
И, ткнув в спину сидевшего на козлах рассыльного концом черешневого чубука, становой приказал ему сесть на мою лошадь.
Через четверть часа мы были уже в Комаровке и каким-то особенным «полицейским вихрем» подлетели к большой избе с пестрораскрашенными наличниками и ставнями и деревянным калачом, подвешенным над средним окном. На завалине сидело несколько стариков с седыми бородами, а неподалеку торчал сотский — хилый, беззубый солдатишка «времен очаковских и покоренья Крыма».
— Стой! — крикнул становой.
И тройка стала (словно ей ноги подсекли!), накатив на стариков густую тучу черной пыли. Сотский подскочил к тарантасу и, протянув обе руки к становому, готовился принять его на свои рамена[5], но становой оттолкнул руки и, ловко соскочив на землю, подошел к старикам.
— Шапки долой! — крикнул он, сверкнув глазами. Головы мигом обнажились.
— Что за народ?
— Понятые, вашескородие.
— Хороши понятые, коли порядков не знают. Вот я вам покажу, подлецам, как перед начальством в шапках стоять!..
Ворота отворились, и мы вошли на двор. У крыльца встретил нас как лунь седой старик, с умным выражением лица и седыми бровями, нависшими над глазами. Длинная борода его, начинавшая от старости желтеть, спускалась до самого пояса. Старик имел вид испуганный, стоял, как-то перекосившись, и исподлобья посматривал на станового не то враждебными, не то пытливыми глазами. Рядом со стариком, на ступеньке крыльца, сидела жена его — тощая, дряхлая старушонка — и хныкала, прикрыв глаза грязным самотканым фартуком.
— Ну, чего хнычешь-то, ведьма! — крикнул на нее становой.
— Как же не хныкать-то, батюшка Петр Николаич, — вступился старик, — вишь ведь горе-то стряслось какое…
— Ужасное горе, — перебил его становой, — ужасное!.. Прохожий какой-то подох!.. Кабы свой… ну так!..
— Все-таки неладно…
И, немного помявшись и снова пытливо глянув на станового, старик спросил:
— Потрошить-то будете, что ли, батюшка?
— Еще бы?..
— Нельзя ли как без потрошения… сено у меня там сложено…
— Мы сена не попортим, мы в избе потрошить будем, а после посотрут бабы.
— Батюшка, отец родной! — взвыл старик.
Но становой уже не слушал его.
— А лекарь здесь? — спросил он сотского.
— Здесь, в избе, вашескородие.
— Пьян?
— Чуть-чуть, вашескородие…
— А писарь?
— Он к попу побег за чем-то.
— Беги и тащи его сюда… да живо у меня!
Сотский бросился и, выбежав за ворота, принялся кричать какого-то мужика, шедшего по улице.
— Стяпан, Стяпан! — кричал сотский, махая подожком[6]. — Беги к попу да посылай писаря становского, чтоб шел скорей, становой, мол, приехал!
Но так как Степан ничего не слышал, то сотский и пустился за ним в погоню, продолжая кричать:
— Стя-апан! Стя-апан!
Немного погодя старик рассказывал нам, как было дело.
— Третеводни стряслось это, — говорил он, — уж мы поужинавши были. Я, знашь, пошел образить[7] лошаденку, а снохи принялись убирать чашки да ложки… Только вот образил я лошаденку, вхожу в избу, хозяйка на печи лежит, а я полез на полати, да и говорю снохам-то: вы, мол, снохи, уберетесь, так залейте огонь-ат. А мы в тот вечер огонь вздували для того, что запоздали как-то. Вот, хорошо. Залили снохи огонь и пошли себе в горницу; значит, летом они в горнице спят, для того, что в избе оченно больно душно… Внучонок, коему вы еще втепоры, как были у нас проездом из Сучкина, сахарцу дали, лег на лавке под окном… Только этак уж гораздо времени прошло, уж и кочета первые пропели, слышу: тук, тук, тук кто-то в окно; я, знаешь, все лежу, не слезаю, — думал, птица клюет какая. Только слышу опять: тук, тук, тук! Внучек проснулся. «Де-едушка, де-едушка, стучит кто-то». — «Взглянь, говорю, в окошко, кто там». Он это посмотрел. «Козырек, говорит, какой-то, дедушка в сертучишке, должно быть, дворовский». Я слез. «Что, мол, те надоть, любезный?» — «Пусти, говорит, переночевать». Я это велел внучку пустить, а сам полез на полати. Вот взошел в избу, как следует, на иконы помолился, испил кваску и закурил трубочку. Я спросил, откелева, мол, бог несет? «Издалека», — говорит. Ну, издалека так издалека. «Ложись, говорю, на лавке-то». — «Нет, говорит, здесь жарко, я пойду на дворе где-нибудь лягу. Проводи, говорит, нет ли какого сарая с сеном или с соломой». Я его повел. Только идем мы двором, смотрю, он покачивается.
— Хмелен был? — проговорил Петр Николаевич.
— Хмелен, батюшка, на порядках-таки хмелен. Да нешто я знал, что этакий грех случится; кабы знал, так вестимо не впустил бы, — провались совсем он, окаянный, чем эстолько хлопот из-за всякой сволочи принимать, издыхай себе в поле! да, вишь ты, лукавый попутал; вестимо, кабы знал, так ни за какие бы деньги не пустил, а то мало ли хмельных-то бывает. На всякий час, видно, не убережешься. Вот я его и впустил в сенной сарай. Вот, мол, ложись тут, только, мол, трубку с кисетом давай, а то как раз село, говорю, спалишь, спаси господи! Он это ничего, сейчас же отдал мне трубку и кисет. Я пошел в избу, полез на полати да и заснул. Поутру просыпаемся, позавтракали. Зазвонил пономарь к обедне, только внучек-ат и говорит: «Что, дедушка, вечерошний-то дворовский больно долго спит». — «Не замай, говорю, пущай его». Вот это хорошо. Обедни отошли; старший сын поехал на барщину пар парить[8], а малый-ат зачал собираться в лес по дрова. «Пойтить, говорит, лошаденку запрячь», — и пошел. А хомуты-то у нас висят в том сарае, где спал дворовский-то. Только это сидим мы в избе… Вдруг вбегает сын, а сам весь ажно полотно и весь трясется.
«Бачка, говорит, а бачка: ты впущал, что ли, вечор в сарай-ат кого?» — «Я, говорю, впущал, мол, прохожего». — «Да ведь он, говорит, мертвый». Мы все так и ахнули… бросились в сарай. Смотрим, а уж он готов.