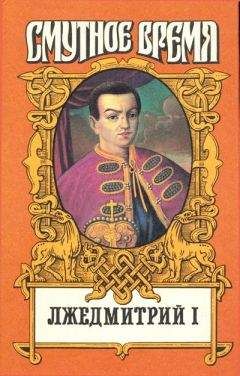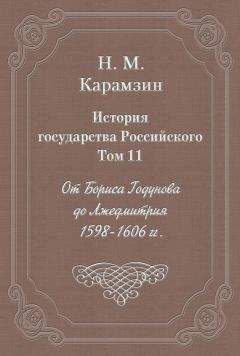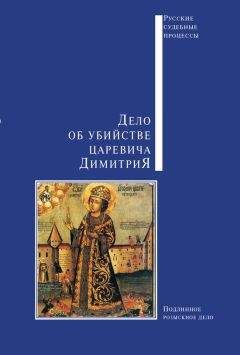— Но пан Максим такой…
— Хоть он и пан Максим, а все-таки еретик… А потом этот боярин.
— Вот оно — зло этого благочестивого дома! — воздев руку, патетически воскликнул патер.
— Пан Белый-Туренин — зло? Помилуйте! Но что он сделал? — отважился запротестовать пан Самуил.
— Вот оно! Вот оно! Еретик уже успел обворожить и твою благочестивую, искушенную испытаниями душу! Каково же бедным неопытным девушкам! Горе им, горе!
Пан Самуил с недоумением смотрел на него.
— Пана боярина следует возможно скорее удалить из нашего дома, — сказала пани Юзефа, наклонившись к своей работе — какому-то вязанию.
— Гм… Почему?
— Он вовлекает твоих дочерей в греческую ересь! — воскликнул отец Пий.
— Может ли быть!
— Я сам слышал.
— Ну, когда так, конечно… А только… Мне, право, не верится…
— Опомнись, Самуил! Кому ты не веришь? — вскричала пани Юзефа, указывая на патера.
Тот имел вид оскорбленной невинности.
— Я верю, верю… Но… Пан боярин…
— Ты должен его попросить удалиться, — сказала пани Влашемская. — Не прямо, а намеками…
— Но ведь он спас Максима!
— Еретик спас еретика! Велика заслуга.
— Что ж, иной еретик лучше другого католика, — расхрабрился задетый за живое пан Самуил.
— Ты богохульствуешь, сын мой! — грозно вскричал патер.
— И, право, я не знаю… Я не могу удалить его! — вдруг решительно выговорил пан Самуил.
Он был робок, нерешителен, но иногда на него находило упрямство, и тогда с ним ничего нельзя было поделать. Это прекрасно знала его жена, она сообразила, что на этой почве вряд ли удастся склонить мужа; приходилось пустить в ход «крайнее средство», о котором говорил ей патер.
— Есть еще одна причина… Я не хотела тебе сообщать, но… — промолвила пани Юзефа.
— Какая, Юзефочка? — чрезвычайно мягко проговорил пан Самуил, уже струсивший своей решительности.
— Он… Он развращает Анджелику…
Лицо пана Влашемского залилось яркою краской.
— Что ты говоришь?
— Чего ждать от схизматика? — презрительно заметил отец Пий.
— Он хочет отбить Анджелику от Максима, — продолжала пани.
— Гм… Быть может, это — клевета?
— Самуил! Ты хочешь меня вывести из терпения! — воскликнула пани Юзефа.
— Не сердись, Юзефочка! Если говорят, значит, есть что-нибудь похожее на правду… Я постараюсь, во всяком случае, чтобы пан боярин поскорее уехал.
— Слово?
— Слово чести!
— Ну, вот! Давно бы так! — облегченно вздыхая, сказала пани.
— Удалением еретика ты только заслужишь милость Божию, — заметил патер.
Удалившись из комнаты жены, пан Самуил долго ломал голову, как бы удобнее исполнить то, о чем его просили пани Юзефа и отец Пий. Не дай он слова, он, может быть, «отъехал бы на попятный», но слово было дано. Приходилось действовать.
Как нарочно, ничего подходящего пан Самуил придумать не мог, и это его раздражало. Досадовало его немало и то, что приходится расстаться с Белым-Турениным: за протекшее время пан Самуил успел полюбить боярина, как родного сына.
Он в раздумье шагал по своей спальне, куда удалился, чтобы наедине собраться с мыслями, когда к нему вошел сам Павел Степанович Белый-Туренин.
Боярин мало изменился. Он только слегка похудел да блестков седины прибавилось больше.
— А я тебя везде ищу, пан Самуил, — заговорил Павел Степанович — он по русскому обычаю говорил всем «ты», впрочем, в то время местоимение «вы» употреблялось и поляками еще довольно редко: это была чужеземная новинка, завезенная в Польшу вместе с французскими модами, которые мало-помалу начали вводиться при Сигизмунде среди знати. — Пришел спасибо тебе сказать за хлеб-соль твою, за ласку: завтра в путь-дорогу отправляюсь.
Пан Самуил едва мог удержаться от радостного движения. «Поручение жены исполнено!» — подумал он, но потом ему почти грустно сделалось, что это совершилось так скоро: он надеялся, что боярин проживет в доме еще несколько дней.
— Чего ж ты так торопишься? — спросил он.
— Пора! И то совестно, что загостился. Рана давно зажила.
— Далеко отправляешься?
— А сам не знаю. Я ведь бобыль ныне, — печально усмехнулся Павел Степанович, — где приглянется, там и остановлюсь.
— Поезжай в Краков. У меня есть там много знакомых, дам письма к ним. Они тебя ко двору королевскому представят…
— Спасибо… Пожалуй…
— Новые места увидишь, новых людей. Особенно теперь, такое время… Слышал про царевича-то?
— Слышал малость. Да я думаю, не пустая ль молва только.
— Трудно решить… Так завтра едешь? Пожил бы еще недельку хоть?
— Нет, спасибо, пан. Решил, так поеду.
— Ну, не неволю, как хочешь, — говорил пан Самуил, выходя вместе с боярином из спальни, а сам думал: «Ну, выпала мне удача! И Юзефочка, и отец Пий будут довольны. Один я недоволен. Эх-эх, Господи!»
К обеду в Черный Брод приехал гость. Это был красивый молодой поляк пан Войцех Червинский; он отправлялся в Краков и по пути завернул к Влашемским.
Таким образом, за обед уселось семь человек, общество хотя и небольшое, но довольно разнородное и по костюмам, и по народностям. Пан Самуил был литвин, Червинский — чистокровный поляк, Белый-Туренин — москвич, пан Максим — западный русский и разнился от боярина говором, отец Пий — его национальность было довольно трудно определить, но, кажется, он был итальянец. То же и относительно религий: семья пана Влашемского была строго католической, пан Войцех, хотя числился католиком, но склонялся к протестантизму, что было далеко не редким явлением среди панов того времени; что касается Павла Степановича и Максима Сергеевича, то они были, как известно, православными.
Не меньшее разнообразие замечалось и в костюмах. Червинский и Влашемский были в жупанах и кунтушах, — у первого преобладали яркие цвета, у второго — более темные, — в цветных сапогах; Белый-Туренин нарядился в бархатный кафтан вишневого цвета; высокий «козырь» — воротник стоячий, пришитый к задней части ворота — был унизан по бортику зернами жемчуга; это была единственная роскошь, допущенная боярином в своем наряде; Максим Сергеевич был одет тоже в русское платье, но уже несколько измененное в покрое на литовский лад. Что касается отца Пия, сидевшего неподвижно, с глазами, устремленными долу, и всем своим видом выражавшего христианское смирение и незлобие, то на нем была неизменная черная ряса, как на пани Юзефе — неизменное темное платье, несколько напоминавшее костюм монахини; панны Анджелика и Лизбета были в цветных нарядах — одна в голубом, другая в красном; в покрое их платьев уже сказывалось влияние французской моды. Это влияние в то время еще едва начиналось, но затем пошло быстрыми шагами, и в начале второй половины XVII века уже все высшее дворянство Литвы и Польши говорило и одевалось по-французски.
Красный цвет очень шел к Лизбете, но, может быть, от него ее лицо выглядело матово-бледным. Она была серьезна, почти грустна. Панна Анджелика тоже не была весела: поручение матери не выходило у нее из головы. Она то и дело с затаенной тревогой посматривала на жениха.
Вначале веселый, пан Максим, видя, что его невеста чем-то озабочена, тоже притих. Павел Степанович был задумчив. По лицам пани Юзефы и отца Пия трудно было узнать, в каком они находятся расположении духа. Только пан Самуил да гость были веселы. У пана Влашемского глаза так и сияли от радости.
— Надеюсь, что пан сделает мне честь, останется погостить в моем доме? — сказал во время обеда пан Самуил гостю.
— Премного благодарен, пан Самуил, — ответил Червинский, — рад бы, но не могу: надо спешить.
— Напрасно! А куда пан направляется?
— В Краков, ко двору нашего наияснейшего короля Сигизмунда. Завтра же поеду… Переночевать мне пан дозволит?
— Можно ли об этом спрашивать? — воскликнул Влашемский. — А у тебя, пан, будет до Кракова попутчик.
— А! Очень рад!
— Вот боярин туда же думает ехать… Ты знаешь, Юзефочка, пан Белый-Туренин хочет покинуть нас завтра, — добавил он, обращаясь к жене и всем своим видом говоря ей: «Что? Ловко устроил? Не ожидали так скоро?»
Посторонний наблюдатель мог бы легко подметить, что сообщение это произвело на присутствующих самое разнообразное действие. Панна Лизбета вспыхнула сперва, потом побледнела еще больше прежнего и опустила глаза; видно было, как нечто вроде легкой судороги пробежало по ее лицу; можно было ожидать, что она заплачет; патер вздрогнул, как от электрического удара; пани Юзефа удивленно взглянула на мужа, потом переглянулась с отцом Пием; Анджелика тоже удивилась — она ничего не знала о предстоящем отъезде боярина; только Максим Сергеевич остался совершенно спокоен: Павел Степанович уже ранее сообщил ему о своем намерении.