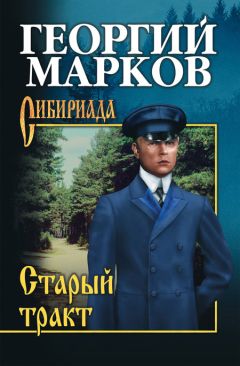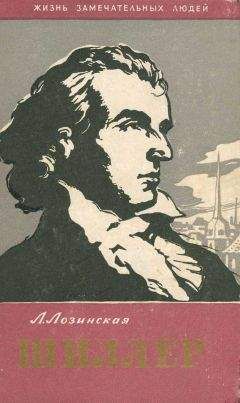В доме Белокопытов достал из ящика одежду жены: юбку, кофту, вязанные крупной ниткой чулки, ботинки со шнурками, поддевку-безрукавку на атласе.
— Скажи ей, брат Северьян Архипыч, если что велико-мало будет, пусть сама посмотрит, там много всего осталось. А пока она прибирается, я поставлю на стол кое-какой припас.
Белокопытов прикрыл дверь в горницу за Луизой и стремительно бросился из дома к амбарушке.
Он вернулся с подносом в руках, на котором лежали куски вяленого мяса и копченые окуни, стояли открытые туеса с брусникой и медом. Доставив на стол харчи, Белокопытов так же ловко, без суеты, заправил из кадки самовар водой, наложил лучинок и поджег их, погрузив пламя в чрево самовара. Добавив туда же углей, он надел изогнутую трубу, соединив самовар с печкой. Самовар зашумел, по дому поплыл запах горящего смолистого дерева.
Шубников наблюдал за Белокопытовым, поражаясь, какой он быстрый и точный в каждом движении. «Истинно влюблен в нее, влюблен бессловесно, и потому душа его в восторге», — продолжал размышлять Шубников.
— Ну как, Северьян Архипыч, не обидится наша гостья на скудость угощения? — обеспокоенно сказал Белокопытов, присаживаясь к столу.
— Да что вы, Ефрем Маркелыч, с какой стати? Мы же не готовились к встрече с ней! — воскликнул Шубников, но тут же про себя опроверг собственные слова: «Я-то не готовился, а он готовился, и, судя по всему, давно. И сам не свой теперь. Каждая жилка трепещет в нем буйством и глаза горят огнем».
Но вот за дверью раздались шаги и на пороге появилась Луиза. Шубников посмотрел на нее и замер, а Белокопытов вскочил с табуретки, порывисто шагнул навстречу к ней, но тут же сдержал себя и отступил на полшага. Ему хотелось обнять девушку, прижать к себе.
— Боже мой, как пришлась ей по плечу Ксюнешкина одежка, — заметил Белокопытов. — Брат Северьян Архипыч, ты посмотри-ка, вылитая она, Ксюшенька! — И он схватил Шубникова за плечо, и тот почувствовал, как дрожит его большая горячая рука.
— Да не видел я вашу Ксюнешку, Ефрем Маркелович, не видел!
— Как две капли воды! Луиза, родная, прости еще раз, что грубо втащил тебя в седло. Пожалуйста прости и садись вот сюда. Она любила сидеть на этом месте. Вот тут, вот сюда. — Он суетился около нее, двигал табуретку, смотрел завороженными глазами на Луизу.
— Он приглашает вас, Луиза, за стол, просит не стесняться, есть сколько хочется, — Шубников не стал переводить все, что сказал Белокопытов, подумал: «Надо успокоить его. Он очень возбужден, может сделать что-нибудь не то и не так и будет ему потом стыдно и горько».
— Вы успокойтесь, Ефрем Маркелыч. Все у вас хорошо. И она довольна, видите, как повеселело ее лицо. Она совсем еще юное существо, и ей необходимо доброе попечение старших.
Шубников заметил, что Луиза прячет свои руки, держит их ладонями вверх.
— Рыбу солили. Солью руки разъело, — смущаясь, сказала Луиза, и Шубников пожалел, что так излишне был внимателен к ее рукам.
— Чем бы, Ефрем Маркелыч, руки ей полечить? — обратился Шубников к Белокопытову и кивнул на Луизу. — Говорит, что к зиме рыбу солили.
— А сейчас живицу кедровую принесу. Лучшего лекарства не придумаешь. — Он схватил со стола остроконечный охотничий нож и поспешно выскочил из дома.
— За лекарством пошел для ваших рук, — объяснил Шубников девушке.
— Вы так любезны! Заживет! — чуть улыбнулась Луиза, а Шубников промолчал, видя, что этот разговор девушке неприятен.
«Безжалостная каторга там, у этих монашек, — подумал Шубников и вновь украдкой осмотрел Луизу. — Какой бурей сюда ее занесло? Что заставило ее жить и страдать в этой трущобе?»
Белокопытов не вошел, а влетел. На ноже блестели несколько ядреных капель чистейшей смолы, снятой с кедра.
— Пожалте! — Белокопытову очень хотелось самому взять Луизины руки и нанести смолу на трещины кожи. Но вдруг робость охватила его и он попросил сделать это Шубникова.
Луиза покорно положила руки на стол, и Шубников осторожно снял капли смолы с ножа на ее руки, слегка растер их, по подсказке Ефрема Маркеловича.
— День-два, и кроме следа от смолы ничего не останется. Все заживет, — наблюдая за движениям Шубникова, сказал Белокопытов, и полное, раскрасневшееся лицо его сияло удовольствием.
Едва окончили эту операцию, самовар заворковал, запыхтел, и Белокопытов залил кипятком фарфоровый чайник, заполненный чаем и смородиновыми листьями. За столом Белокопытов то и дело угощал Луизу и Шубникова, пододвигал к ним тарелки со снедью, обещал к ужину приготовить свежую дичь.
Луиза все еще присматривалась к мужчинам, но стала уже спокойнее, ела с аппетитом, без стеснения.
Трапеза протекала неспеша. Шубников надолго замолкал, а без него разговор вести было некому. В такие минуты Белокопытов с обожанием в глазах посматривал на Луизу и, чувствуя свою беспомощность в общении с ней, опускал голову.
После еды Белокопытов настоял, чтоб Луиза отправилась в горницу и отдохнула. Но она и встать не успела, как в открытую дверь дома донесся заливистый лай собак.
— Кто-то припожаловал, да еще с собаками, — с тревогой в голосе сказал Белокопытов и кинулся к окну. — Северьян Архипыч, уведите ее в горницу от греха подальше. Одно из двух: либо пасечник мой пришел, либо Манефа-настоятельница послала своих дозорных. Я выйду, посмотрю…
Белокопытов одернул рубаху, выпрямился, попутно резким взмахом руки открыл дверь в горницу, и Шубников пропустил Луизу, наказав сидеть тут, пока он сам не придет за ней.
Луиза побледнела, вздергивала плечами, стала снова робкой и маленькой.
— Они убьют меня! У них можно войти, а выхода назад не бывает, — вполголоса сказала она.
— Не отчаивайтесь! Ефрем Маркелыч не даст вас в обиду, — прошептал Шубников и как-то невольно погладил ее по спине.
Упрятав Луизу за перегородку, где стояла кровать и комод с вещами, Шубников вышел из дома. «Коли погоня за Луизой, пусть знают, что нас, мужчин, тут двое», — думал Шубников. Он был сейчас полон решимости отстоять ее, если б даже потребовалась сила.
Когда он вышел на крыльцо, то в раскрытые ворота увидел Белокопытова и двух женщин, сидевших в седлах на конях. Они были в такой же одежде, в какой была давеча Луиза: черный платок, повязанный вокруг головы, длинный зипун с опояской под бедрами, на ногах чирики. В руках у женщин были ременные бичи с жесткими узлами на концах. Скитские пестрые собаки, высунув длинные языки, мирно лежали на лужайке, щурили зенки.
— Откуда всадницы, Ефрем Маркелыч? — подходя к Белокопытову, спросил Шубников.
Одна из женщин вперилась в него круглым глазом, и глаз этот — непримиримо суровый, подсказал ему — вот она, палачка из монастыря, подручная настоятельницы Манефы. Второго глаза у нее не было, он вытек, когда-то и кожа, закрывшая глазницу, была замазана какой-то бордовой краской.
— Здравствуйте, барин, — сказала негромко вторая женщина и слегка тряхнула головой в черном платке.
— Происшествие у них в ските, монашка Секлетея потерялась. Не то заблудилась где-то в тайге, не то утопилась в озере. А может быть, тунгусы выкрали, в жены старшине увезли, — подчеркнуто спокойным тоном объяснил Белокопытов.
— Ну и что же они хотят от вас, Ефрем Маркелыч? — спросил Шубников.
— Спрашивают: не видел ли я Секлетею. А я говорю, весь день с городским гостем по тайге бродили и следов никаких не встретили.
— А к нам-то ездил или не ездил? Конские следы к нам ведут, — хриплым голосом сказала одноглазая и перевела свой непримиримый глаз с Шубникова на Белокопытова.
— Ездил! Я уже тебе сказал — ездил! Может быть, хочешь знать зачем? Тогда спроси свою хозяйку, она тебе, может быть, чего-нибудь обскажет, — повышая голос, с усмешкой сказал Белокопытов.
Одноглазая аж вздрогнула. Мать Манефа не любила, чтобы ей задавали лишние вопросы, и всякое ненужное любопытство пресекала строгими наказаниями.
Шубников по собственному признанию перед самим собой не отличался особой храбростью, но сейчас яростный глаз монашки вызвал у него ожесточение, и ему почему-то захотелось, страстно захотелось вселить в скитскую палачку робость, увидеть, как потухнет в ее глазу затаенная ненависть.
— Это что еще такое?! Ты что, подозреваешь доброго соседа? Ты думаешь, что ты говоришь? Или хочешь, чтоб я в ваше тайное убежище прислал на ревизию государственных чинов из города? — Шубников сам не узнавал себя. Он не просто говорил, он кричал, притоптывая ногой.
Непримиримый глаз заморгал часто-часто, на мгновение закрылся, а когда веки поднялись снова, он стал совсем иным. Не ярость, а испуг, неохватный испуг выражал этот одинокий глаз.
— Извините, барин, за неразумное слово, — прохрипела одноглазая и, присвистнув на коня, задергала поводьями узды. Собаки вскочили, кинулись обгонять коней.