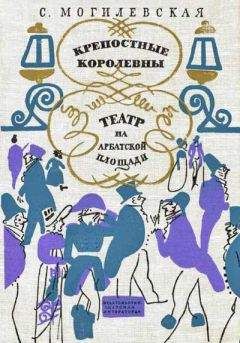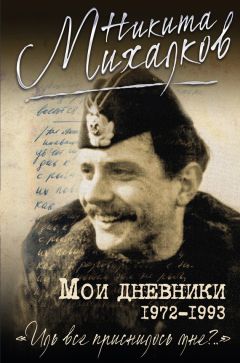Вдоль кремлевской стены текла узкая мутная речка Неглинка. За лето пересохла, еле струилась между песчаных откосов. Медленно несла свои воды в Москву-реку. Саня побрела вдоль Неглинки. Вскоре вышла к Москве-реке. Постояла у реки. Бабы полоскали белье, били вальками, перекидывались словами и шутками. Купались ребятишки. Мужики поили коней. Все люди казались сейчас Саньке довольными и счастливыми. У каждого есть дом, хоть какой-нибудь, а дом! Крыша над головой… Придет ночь, знают, где голову приклонить. А она… Бездомная, бесприютная, одна-одинешенька на всем белом свете. Слезы снова выступили на глазах, сдавило горло.
Потом пошла прочь от реки, стала подниматься на пологую горушку. Увидела дворец. Увидев, невольно остановилась и засмотрелась. Царский был этот дворец или какого уж очень богатого барина? Стоял весь белый, весь разукрашенный. За красивой чугунной оградой лежал пруд, на пруду плавали заморские черные лебеди с алыми клювами.
Потом Санька поднялась по Знаменке вверх и неожиданно все-таки вышла на Арбатскую площадь. Узнала театр. Остановилась возле в недоумении, в испуге, в растерянности. Стало быть, такова судьба. Наперекор идти нечего…
И, покорившись этой своей судьбе, еще не зная, радоваться или, скорее, печалиться, она пошла к той двери, из которой нынче вывела ее отсюда Анюта.
Вошла в театр. Нашла путь в знакомую каморку. Толкнула беззвучно дверь и переступила порог.
Было тихо здесь в этот час. Дедушка Акимыч спал, пристроившись на лежанке. Прикрылся какой-то шубейкой. Сладко и тонко во сне посвистывал носом. Может, видел райские сны, а то и просто отсыпался после нынешней бессонной ночи.
Саня не стала его тревожить. Села на прежнее место, в то же ветхое кресло, крытое желтым атласом, днем-то оно было заметнее — старым-престарым и дырявым. Села и молча стала глядеть в оконце.
Глядела долго и неотступно. Постепенно день стал клониться к вечеру. Солнечные лучи, угасая, сначала оставили в тени самый низ бревенчатого дома, какой стоял против окна. Потом слегка задержались на его соломенной кровле. Потом осветили золотые луковки церквушки, видной за домом. А уж напоследок, перед тем, как совсем погаснуть, освещенный солнцем, засиял только самый высокий крест на колокольне.
И крест этот светился долго и ясно, пока и с него не соскользнули последние закатные лучи. Но и тогда Саньке казалось, что тоненький дрожащий лучик все еще нежно теплится на небе — не то голубом, не то розовом. А может, это зажглась первая вечерняя звезда…
Тогда стал просыпаться дедушка Акимыч. Протяжно зевнул. Потянулся. Что-то пробормотал. Скинул с себя шубейку, спустил с лежанки босые ноги, еще разок потянулся, захрустев стариковскими косточками, и тут вдруг увидел Саньку. Увидел и словно бы глазам своим не поверил. Помигал и шепотом спросил:
— Сударушка, ты ли?
Санька ответила:
— Я, дедушка.
— Воротилась?
— Воротилась, дедушка.
— Не стряслось ли чего?
— Нет, дедушка, — ответила и глаза опустила. А реветь ей уже хотелось в голос.
Акимыч живехонько соскочил с лежанки, маленькими шажками подбежал к Саньке. Положил ей на плечо легкую и сухонькую стариковскую ладонь.
— Говори, девонька, чего стряслось? Все высказывай, не таись.
Тогда Саня, приникнув к стариковскому плечу, навзрыд заплакала. Между всхлипами все рассказала:
— Нет у меня более дома… Безродная, бездомная теперь я, дедушка… — И слезы полились сильнее прежнего.
— Как это нет дома? — отстранившись от ревущей Саньки, вскричал Степан Акимыч. — Почему ж у тебя нет дома, сударушка? А тут тебе чем не дом? А я с Анюточкой разве тебе чужие? Нет, ты сказывай мне, ответь — чужие мы тебе?!
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
В ПЛЕНУ МУЗЫ МЕЛЬПОМЕНЫ
Глава первая
В которой Санька узнает кое-что о музе Мельпомене, старом суфлере Акимыче и о многом ином
И началась для Саньки новая жизнь. Уж до того новая, что от прежней остались разве только праздничный сарафан, да полусапожки на каблуках, да алый платочек.
Поутру, лишь поднялись, Степан Акимыч стал куда-то собираться. Санька решила, что к внучке, к Анюте. Уведомить ее — так-то и так-то, вчерашняя, мол, девчонка воротилась, некуда ей теперь податься, чего с ней будем делать?
Но Степан Акимыч, уходя, сказал:
— Сейчас, сударушка, в трактир по соседству сбегаю, поесть принесу.
— Да я вам, дедушка, сама настряпаю!.. — воскликнула Санька. — Прикажите, всего наготовлю — и щей, и киселя горохового! Чего захотите… Я славно могу стряпать. Где у вас капуста лежит?
Степан Акимыч крайне удивился:
— Зачем же стряпать, голубушка? В трактире готовое имеется. Сбегаю да принесу. А капусты отродясь в моих апартаментах не водилось.
Теперь пришел черед удивляться Саньке. Заахала:
— Как же без капусты-то? И репы не имеется? И гороха?
— Уж не обессудь… Ничего такого не держу. Да и печь топлю изредка, в зимнее время, когда морозы одолевают. Страшусь театр сжечь… — Сказав эти слова, Степан Акимыч убежал.
И осталась Санька в полном недоумении. Да как же так? И печь по утрам не топится. И капусты с горохом не имеется! Оно, конечно, театр сжечь страшно, да ведь можно аккуратно. Они-то избу не сожгли, а печь всякое утро топят. И напала на Саньку от этих мыслей ужасная тоска, и горько она заплакала…
Но плакала она недолго. Боялась, чтобы, воротясь, Степан Акимыч не застал ее ревущей. Утерла слезы, огляделась. Каморка была хоть маленькая, а чистенькая. Стол да скамья вдоль стены, да два ветхих креслица, да лежанка, на коей дедушка спал, да еще шкаф расчудесного вида. А может, и не шкаф? Кто его знает. У них дома такого не имелось. Хотела было Санька посмотреть, чего внутри делается, — не посмела.
Опять вспомнилось про дом. Опять на глаза набежали слезы. Хоть мачеха сквалыга, хоть сестрицы дуры, хоть не житье ей там было, а все родное место. Да и батюшку жаль…
Пошмыгала носом, смахнула со щек слезинки, стала глядеть в окно. Поняла, что каморка находится внизу, маленькое оконце уперлось прямо в землю. Возле стекла увидела чахлые травинки, они пробивались между здоровенными булыгами. А более нечего и глядеть: напротив окна — стена бревенчатая, сбоку — каменная, за домом, над его крышей, золотые маковки блестят. Стало быть, и церковь недалече.
А дома-то, дома! То ли дело… В окна черемуха так и просится, зелеными ветками постукивает. Весной душистая, цветами разукрашенная, к осени черные ягодки кистями висят, сами в рот лезут.
От тоски взялась за тряпку, окошко стала протирать. Ну и грязное! Ох и грязное! Небось руки не доходили ни у дедушки, ни у Анюты. Только успела с окном управиться, пол подмести — Степан Акимыч воротился.
— Аи да хозяюшка, какую чистоту навела! А теперь давай, девонька, поедим. Гляди, сколько всего притащил! Уж коли моя изба не больно красна углами, пусть будет богата пирогами. Ешь калач… Белее бывает ли? А вот кислая капуста. Закусывай да кваском запивай. Доктор Рожерсон… известно ли тебе, кто таков доктор Рожерсон?
Санька помотала головой: нет, неизвестно! А рот полон и пшеничным калачом, и квасом, и капустой. Язык не повернешь, а вкусно — страсть!
— Доктор Рожерсон, сударушка моя, старейший из лейб-медиков покойной нашей государыни Екатерины Алексеевны. Вот он кто! Так сей доктор Рожерсон всегда говаривал: полезнее кислой капусты да кваса нет еды на свете. От сих продуктов здоровый дух и здоровое тело, а посему народу российскому надобно Этой еды и придерживаться! Так-то! — И Степан Акимыч засмеялся.
Но Санька не поняла — смеется дедушка потому ли, что ему смешно и весело, или наоборот: совсем ему не до смеху, что народу российскому надо придерживаться капусты да кваса и более ничего не есть.
Пока же она уплетала за обе щеки принесенную из трактира снедь. Оно и правда — зачем самой стряпать, коли можно готовенькое принести. Что хорошо, то хорошо, ничего не скажешь!.. А насытившись, подумала: все же нужно достать капусты, гороха, солонины и наварить щей — жирных, густых. Еще горохового киселя. Пусть дедушка Акимыч поест домашнего, не трактирного, тогда скажет…
Оно, конечно, хорошо бы наварить дедушке таких щей — и густых, и жирных, а где все взять? И денег у нее нет, и пути домой нет, а как жить дальше — и вовсе неведомо. Не сидеть же век у дедушки на шее!
И от этих дурных мыслей затуманилась Санька. Не спросить ли у дедушки, чего ей делать? Может, присоветует путное?
И спросила. Только совсем не о том. Про храм Мельпомены спросила, вот о чем.
Степан Акимыч крайне удивился:
— Откуда у тебя в голове такое?
— Да пришлось услышать… — уклончиво ответила Санька. — От одного человека. Слыхать-то слыхала, а в чем толк, не пойму.
И вдруг ни с того, кажется, ни с сего у Саньки сладко ёкнуло сердце — вспомнился Федор. Вспомнила, как лезла с ним наверх, в раек, как он на нее глядел… «Да ну его! И думать о нем не хочу. Из-за него, окаянного, вся моя судьба шиворот-навыворот повернулась». Хоть не хотела, а все равно никуда из ее мыслей Федор не уходил. Вот наваждение!