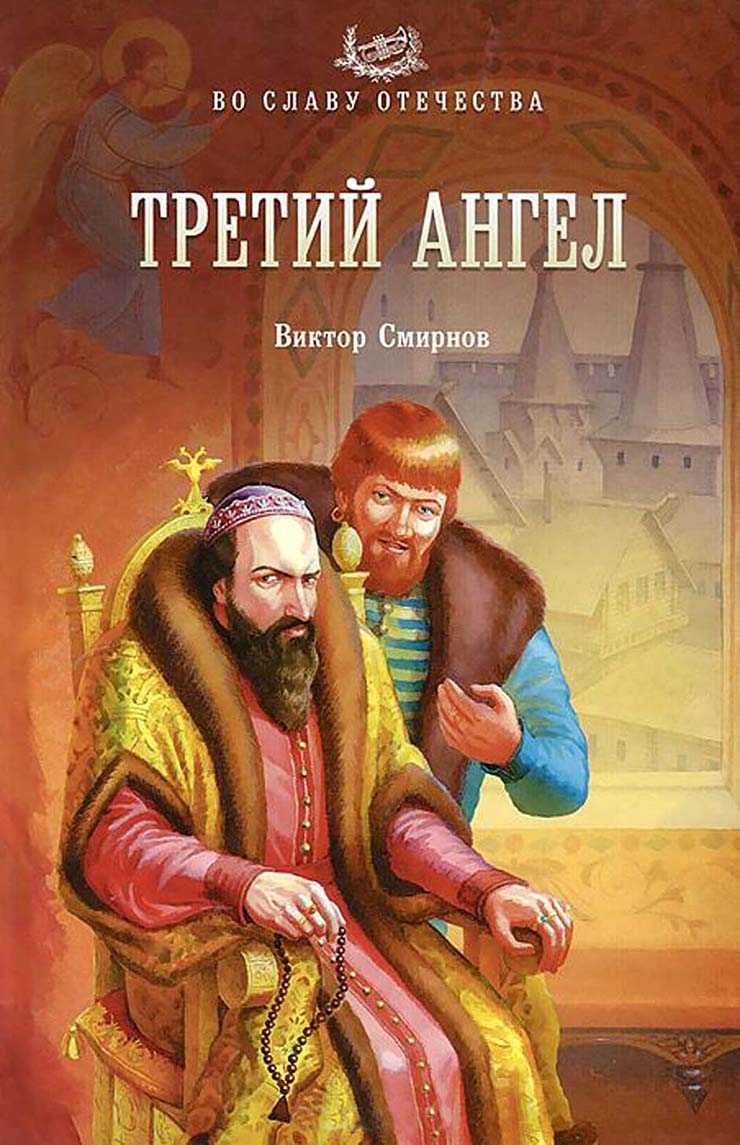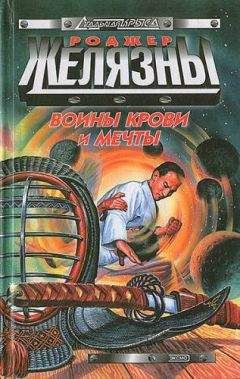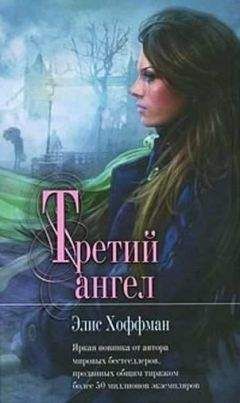нам послужил, сколь мы от него добра поимели, да и ещё поимеем. Ежели грозу от него отведём, глядишь, и раскошелится владыка?
Басманов подмигнул и ухмыльнулся, ровно и не горевал. Вяземский задумчиво почесал переносицу.
— Есть у меня человек, Ловчиков Григорий. Можно послать в Новгород упредить старца, чтобы ждал гостей.
— Не предаст? Помни, что царь говорил.
— Гришка-то? Да он мне как меньшой брат.
Проводив взглядами Басманова и Вяземского Грязной и Малюта тоже собрались отужинать. Звали постельничего Дмитрия Годунова, но тот отказался, сославшись на хлопоты.
— Хитёр бобёр, — хмыкнул Васька. — На две стороны постелю раскладывает, и нашим и вашим, ждёт, чья возьмёт.
— Куда он денется, — буркнул Малюта, — он мне сродственник, дочку Машу за Бориса, племяша его, выдаю.
— Тут ты не прогадал, — понимающе кивнул Грязной.
Годунов и впрямь вошёл в большую силу. Вот уж воистину: не место красит человека. До Годунова постельный приказ считался второстепенным, а при нём вырос до самоглавнейшего. Весь царёв обиход на нём, огромный гардероб, приёмы и встречи, придворная капелла, и ещё тысяча разных разностей. Поди, попробуй угодить капризному и взыскательному царю, чуть что — башкой ответишь. А главное, охрана царя на постельничем. Он на ночь обходит дворцовые караулы, он и спит в царских покоях. Всё знает, всё ведает. Так что иметь в родственниках такого человека для любого честь. Да и Борис, племянничек годуновский, малый хоть куда — умён, увёртлив — далеко пойдёт.
— У тебя ведь и Христя на выданье?
— Просватали днями, — махнул рукой Малюта.
— За кого?
— За Митьку Шуйского.
Грязной присвистнул от изумления. Дмитрий Шуйский считался первым женихом на Москве. Писаный красавец, мечта московских боярышень, наследник знатнейшего рода, ведущего родословную аж от самого Рюрика. Чаяли — уж ежли женится — так на шемаханской принцессе. И вдруг — малютина дочка! Ни роду, ни племени, и собой нехороша — в родителя удалась. Чудеса!
— Батюшка Митькин, Шуйский Иван Андреич, воеводой служит в Смоленске, — словно прочитав Васькины мысли, объяснил Малюта. — А не так давно лакей его ближний возьми да в Литву-то и сбеги. Я, как дознался, тотчас вызвал Ивана Андреича сюда, в Слободу, привёл в пытошную, показал своё добро. Сели рядком да поговорили ладком, а на завтра он сватов заслал.
— Ох и зубец ты, Лукьяныч! — искренне восхитился Грязной. — Тебе, я гляжу, осталось с царём породниться.
— Дай срок, — то ли шутейно, то ли всерьёз пообещал Малюта. — У меня ещё Анна есть. Может, она в царицы выйдет?
Ужинать поехали в новые палаты Скуратова. Скинув чёрное полукафтанье опричника и, переодевшись в домашнее, преобразился Малюта в Григорья Лукьяныча, домовитого, степенного хозяина. Видно было, что он гордится домом и что домашние гордятся отцом семейства.
Ели долго и молча. Васька налегал на вино. Скуратов почти не пил. Насытившись, распустили пояса, сели говорить.
— Как думаешь, Василий, для чего на Новгород идём?
— Как для чего? — удивился Грязной. — Вестимо, грабить.
— Это само собой. Но у нас с тобой и другое дельце будет.
С минуту Малюта молчал, словно не решаясь начать, разглаживая короткопалыми веснушчатыми руками рыжую кудель на голове. Потом заговорил:
— Донёс мне верный человек, что государь наш в аглицкие земли засобирался. Письмо тамошней королеве отписал, дескать, изменников боюсь, прими, ежли что.
— Брешешь! — ахнул Грязной.
— Собака брешет, — отрезал Малюта. — Верно говорю. Пуглив надёжа-государь. Потому и грозен, что пуглив. Сызмальства таков. Помню, когда в Казани на приступ пошли, его силком из церкви вытаскивали, чтоб войску показать. Ну а теперь скажи, что с нами станется, коли царь сбежит?
— Ремешков не оставят, на мелкие части разорвут, — уверенно сказал Васька.
— То-то. Крови на нас много. А посему отпускать его никак нельзя. Мы есть, покуда он есть, а нет — поминай как звали.
И как нам быть?
Я своим умишком прикинул, что всё же ни в какую Англию царь не сбежит. И постриг не примет, хотя нынче в Вологде кирилловским монахам для себя келейку заказал и пятьсот рублёв на обзаведение дал. Это он всё чудесит. Книжек начитался и мнит себя то Иисусом Навином, то царём Соломоном, то последней тварью. Только власть он никогда не отдаст. Горд очень. Выше всех людей себя почитает, а без власти какая ж гордость? Я другого, Вася, боюсь.
— Ну?
— Захочет он с земщиной помириться. Отопрётся от нас. Опричнину отменит. Скажет: кромешники во всём виноваты, они меня обманывали, а я к народу всей душой. Ну а дальше — нас на дыбу, а ему все в ноги падут, славься, батюшка-государь, спаситель ты наш.
— А ведь похоже, — вздрогнул Грязной.
— Да так и будет, ежели мы что надо не сделаем.
— Говори, не томи!
— Кровью его самого надо повязать, да такой, чтоб вовек не отмылся. Чтобы после того как на Новгород сходим, кроме нас другой опоры у него не осталось. А одним разом и с Басмановыми покончить и Вяземского туда же. После них по земщине ударим, чтобы мириться не с кем было. Вот тогда и будем мы с тобой первые люди при царе. Понял теперь?
С острым интересом Грязной взглянул на Малюту. Точно другой человек сидел перед ним. Обычно тусклые кабаньи глазки глядели холодно и беспощадно.
— Не боишься, что переметнусь?
— Не боюсь, — мотнул тяжёлой башкой Малюта. — Расчёта нет. Кому ты нужен? Басмановым? Ты для них как был псарь, так псарём и останешься. И для царя ты пустое место. Балагурством на пирах долго не продержишься, другие балагуры найдутся. Так что, брат ты мой, кроме меня тебе деваться некуда.
— Ну а ежели царь передумает на Новгород идти? Басмановы с Вяземским отговорить могут. Они к царю ближе нас.
— А вот это и есть наша с тобой забота. Надо царю такие улики представить, чтобы он нам, а не им поверил. И помни, Вася, теперь либо мы их, либо они нас, — многозначительно сказал Малюта.
От Москвы до Новгорода шесть дней спокойного зимнего пути. Государева почта добирается за три. Скачут гонцы как оглашённые, на недавно заведённых станциях — ямах