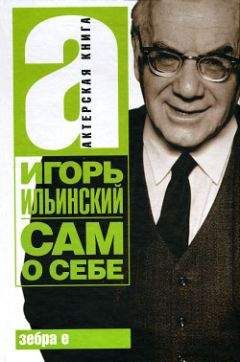лечил, были и в богатых домах больные и мертвые. Так отчего же пристает зараза к одним, а других не трогает?» – очень долго шел назад Еремей и мучился думами. Как ни старался, но не мог разгадать он загадки сей. Но что чернобородым собственный карантин разрешили сделать и, коли блюдут они слово обещанное, то поменее смущают их нарядами докторскими и полицейскими, это Еремей одобрял. Не сказал ничего старшой про полицию, решил, видать, умолчать из гордости – ну, так знал Еремей доподлинно, что ныне по городу врачи никуда не пойдут без надежных мундирных охранников. Даже не высунутся.
Как добрался до Кремля – новая забота. Донеслись из самой близи, кажись, чуть не сразу за стеной краснокаменной, слухи, что мутят народ какие-то расстриги, или даже люди, вообще никогда в духовном сане не бывшие, самозванцы бродячие, несчастие вечное, те самые, что лучше всего простой народ вокруг пальца обвести могут и тем живут. Ох, доверчив наш народ, почему ж так доверчив? Почему ж самым безоглядным мошенникам в рот смотрит, как зачарованный, а тому, что скажешь ему обычными словесами – не верит?
Липнут друг к другу гнилые плоды, уже не десятками, говорят, а сотнями считают там нищих да убогих, расслабленных да исступленных, кликуш да бесноватых. А у нас любой юродивый – почти святой, что будет, коли их целый батальон наберется? Зудят, вопят, расходиться не желают. Собирают, дескать, деньги на оклад чудотворной иконы, что у Варвариных ворот, будто властью церковной облеченные. Обещают: тот, кто хоть малую копейку, по силам своим, подать сможет и непременно от чистого сердца, обязательно от заразы сбережется и умрет своею смертью в преклонном возрасте. Вот народ к ним и валит – еще бы! А те рады-радешеньки, деньги гребут горстями, в ларце держат и никого до него не допускают. В иное время давно бы послали солдат да монахов, волей архиепископской или губернаторской, быстро бы порядок навели. А теперь слуг государевых ни в каком деле, кроме борьбы с язвой, пользовать нельзя, монахи же все чудовские, да и иные тож, исчезли до предпоследнего человека: поумирали или разбежались.
Отчего-то знал архиепископ, разумел Еремей, что не любят его в Первопрестольной. И никогда, вспоминал он, не любили. То ли с самого суда давнего над архиереем старым, то ли оттого, что жил столичный пастырь богато да раскидисто и скрывать этого никогда не пробовал. Справедливо ли? – ведь видел Еремей, как заботится преосвященный о простом люде, как старается исполнить все меры, что предписывает из Петербурга высокая комиссия, все, что надумали в жестоких бдениях здешние доктора и повелело мудрое градоначальство. Хоть и надо по правде сказать: путались те доктора, сами себе противоречили – видел это Еремей и в карантине, а потом в городе, во время обходов. Но не по дурости плошали они и не по злому умыслу, а оттого, что больно страшна зараза, да и – вот что понял Еремей, вдруг похолодев, – вовсе немного знают о ней ученые люди.
Иногда страшно становилось Еремею, если думать продолжал, как тяжко жить на свете. Ни от чего нет человеку спасения. Войны идут, бури деревья рвут, люди сгорают в одночасье… С утра бегал резво, а ввечеру лежит на столе со свечой в руках хладных. Как остановить, уберечься? Все в руке Божией, правильно. А и не так – надо на себя надеяться, ведь в сражении одна армия стойче, она и побеждает. Против урагана каменный дом лучше устоит, чем дощатый, ведь и его, Еремея, чужие люди заботой от язвы спасли, неуязвимым сделали. И в карантине тогда они с господином доктором тоже…
Только почему-то не слышал Еремей, чтоб еще кто лечил язву, пусть понимал, как уже было сказано, что не напастись, не найдется на всех ни льда, ни кадок, ни санитаров, умелых, как он сам. Но если б знали люди, если рассказать им, как бывает, чтоб поверили, может, утроились бы силы их, встало бы обчество. Может, несколько дворов, где больные есть, вместе бы пользовали родных своих, докторам помогали? А почему не попробовать – хуже-то не будет. И ведь не то, что он один умный – верно, приходила такая мысль в голову людям важным, поболее его понимающим. Почему же молчат они, не сзывают никого, не рассказывают правдиво? Боятся – кого же теперь бояться?
Ах если бы сила в них была вместе со знанием. Хотя посмотришь иногда пристально, ничего толком не разумеют книгочеи пыльные, ведь и отец Иннокентий как-то признался: мало знание человеческое, убого, ничтожно. И как понять это: вот ведь есть корабли, плывут через широкие моря, путь по звездам находят, или орудие какое изобрели пушечное – стреляет за сотни аршин, стены рушит, людей на части рвет. Не было ране ни таких кораблей, ни таких орудий, вот в Писании о них ни слова – неумел был человек во время далекое, копьями сражался, ходил вдоль берега на лодках малых. Теперь не так, но все равно – страсть как немощен человек, как беспомощен. Кусочна мудрость даже самых мудрых, как по болоту со слегой пробираются – здесь ходили они, а там не смеют. Не отваживаются. И самое страшное: часто владеют знанием спасительным, а применить его не могут. Словно власти московские.
Даже в Священном Писании не все объяснить могут, а уж сколько лет его толкуют и из самых лучших умов, самых возвышенных – многие к сонму причислены. Значит, по сему и быть должно? Нельзя Божьей воле перечить, только покориться? Иногда так думал Еремей. И по-другому думал: не искушение ли это, не испытание ли? Как разобраться? Лежал в келье, бессонный, до самого утра.
Видать, не останавливали такие соображения преосвященного, не Писанием стращал он оставшихся слуг своих, верил твердо архиепископ в исполнение гигиенических мер, выпускал все новые циркуляры, требовал от священства полного их соблюдения, а в случае неисполнения грозил карами. Правильно делал, соглашался Еремей, хорошо если б все власти оказались столь деятельны. А все-таки немного не так. Добавить бы слово доброе к циркуляру-то грозному. Хотя главное – не для себя старался владыка. Для других, их спасал. Тут в палатах, за высокими стенами, хоть и поредело знатно, да пока безопасно было, а вот в городе… О тех думал святой отец, кто там оставался, в слободах да карантинах. Но нет справедливости – не было ему ответа. Только крепче серчал с каждым днем наш народ, воистину сказано, жестоковыйный. Совсем разрежена была толпа на вечерней службе и в самом Чудове, последние люди пропадали из монастыря, тихо становилось в Кремле ближе к ночи,