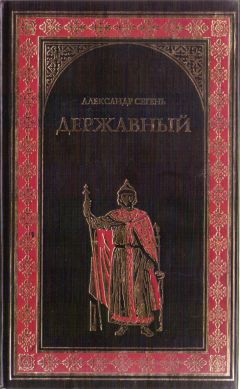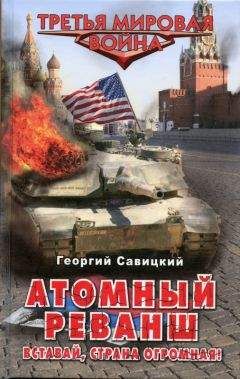— Нравится ли тебе Ердань наша, московская, Соломония Юрьевна? — спросил Василий.
— Зело хороша, Василий Иванович, — ответила Солоха. — Не можно налюбоваться.
— Это тобой не можно налюбоваться, — ласково сказал князь, беря Солошу за руку. — До чего же ты хороша, Соленька! Так бы и нырнуть в тебя! Вот о какой ердани мечта моя.
— Речи твои… смелые какие… — покраснела Соломония.
Ей и нравилось, и не нравилось то, что он говорил. Он вообще любит всякие такие намёки, от которых вся краской заливаешься.
— Разве нельзя тебя с ерданью сравнивать? — продолжал говорить Василий, прижимая к своей груди руку Солохи.
— Грех, — отвечала Солоха. — Ердань — святое, а я…
— А ты — будто ангел. Выходи за меня замуж.
— Да ведь я, чай, невеста уж твоя, — опешила девушка.
— Разве? А я и забыл! — И захохотал, озорник.
— Обидные эти речи…
— Да ведь шучу я, Солнышко! Любя. А ведь и впрямь буду тебя Солнышком называть. От Соломонии ласкательно лучше всего. А ты меня — Подсолнушком. Хорошо?
— Нехорошо. Вы для меня — Василий Иванович. Государь и господин мой. Мне ваше имя нельзя уменьшать.
— Страсть как хочу посмотреть твоё купание!
— Скоро хотение ваше исполнится.
— А что же ты меня на «вы» называть стала?
— Смущаюсь…
В такой болтовне они дождались, покуда все Сабуровы, искупавшись в Ердани, вернулись. Ещё через какое-то время объявили, что настала очередь девушек и жён.
Это был единственный день в году, когда девушка могла прилюдно раздеться до сорочицы и не подвергнуться за это жестокому осуждению. Соломония Юрьевна сама сняла с себя коруну и вручила её жениху, затем служанки помогли ей закончить разоблачение. И вот, в одной сорочке и переобувшись в лёгкие черевцы, первая красавица Руси двинулась по направлению к Ердани. Она шла, гордо и красиво запрокидывая голову, длинная русая коса стукалась о спину и поясницу, груди колыхались под сорочкой, и их затвердевшие ягоды щекотно тёрлись о платно. Ничуть не было холодно. Куда там! — горячо от множества взоров, направленных сейчас лишь на неё, красавицу Соломонию. Все эти люди московские, совокупно с Христом ныне в водах ерданских омывшиеся, теперь взирали на главную государственную невесту с жадным и горячим любопытством. Холодно? Мороз? Да она готова была вот-вот вспыхнуть, чувствуя на себе всемосковское восхищение!
И как подошла к Ердани, ни единого мгновенья не замешкалась — так и ступила легко в прорубь. Дыхание сразу перехватило.
— Ах! — тихонько воскликнула Соломония, погрузилась с головою, вынырнула, вся сжалась, чтобы не закричать. Затем, не дыша, развернулась, медленно подошла к кромке льда. Протянула руки, сама любуясь, какие они белые и красивые в серебре крещенской водицы. Её подхватили, вытащили. Восхищение зрителей настолько усилилось, что ледяная, ставшая прозрачной сорочица мигом нагрелась. Гордясь собою, что стойко сохраняет спокойствие в лице и движениях, Соломония не спеша направилась к своему жениху, который в восторге смотрел на неё, раскрыв рот. Когда она подошла, накинул на неё тёплый опашень и повёл к шатру, в котором она могла одеться.
Через некоторое время, уже полностью одетая, она вышла из шатра. Василий ждал её, взял за руку, повёл к отцу.
Государь Иван Васильевич твёрдо стоял на ногах неподалёку от Ердани, в которую продолжали прыгать девушки и жёны. Соломония краем глаза успела увидеть вылезающую из проруби гречанку, казначееву дочь. Та была чудо как хороша в просвечивающейся сорочке, но мало кто взирал на неё так, как на государеву невесту, да и она как-то скукожилась, дёргая челюстью, быстро побежала к шатру. Больше Соломония не задерживала на ней своего внимания и даже почти совсем забыла. Подойдя к Державному, она низко поклонилась ему и приложилась губами к руке. Справа от Ивана Васильевича стоял тощущий старец в грубых сапогах и страшной власянице. «Настоящий кощей!» — подумала о нём девушка. Слева стоял другой старец. Этого Соломония Юрьевна уже знала — тот самый Иосиф Волоцкий, который яростнее всех борется с ересью, и если бы не он, быть может, не стали бы еретиков жечь. За спиной у государя и старцев толпились самые знатные люди московские, братья и сёстры Василия, другая великокняжеская родня.
Глаза Державного горели пленительным восхищением, и Соломония невольно пожалела о том, что он так стар и немощен, что не за него ей суждено идти замуж, а за его сына.
— Хороша! — сказал Иван Васильевич. — Красивее я и не видывал. И какая смелая! Бултых — и глазом не моргнула. Не то что некоторые изнеженки. Славная жена у тебя будет, Василий. Завидую тебе. Жаль, что стар.
— Я сегодня придумал, как буду нарицать её, — сказал Василий. — Солнышком. То есть ласково от Соломонии.
— Ну, это ваши нежности, — поморщился Державный, но взгляд его продолжал так пленительно играть, что Соломонии сделалось совестно собственных своих мыслей.
— Как ваше здравие, государь? — спросила Соломония Юрьевна.
— Отменное! — отвечал Державный. — Ведь во Христа облекохся! Ниле, а Ниле! — повернулся он к «кощею», одетому во власяницу. — Как же мне уходить в скит? Не погуляв на свадьбе у сына?
— Всё в твоей воле, царь Иван, — молвил «кощей».
— На год задержусь, пожалуй, на Москве ещё поживу, — сказал Иван Васильевич. — Вот совет Осифа исполню, на царство венчаюсь и сына своего венчаю. Перед свадьбой его благословлю и на свадьбе повеселюсь. А тогда уже можно и в скит. Дашь мне один год отсрочки, Ниле?
— Не у меня, у Господа проси, — отвечал верижный старец.
— И у Него попрошу, и у тебя спрашиваю. Один только годик желаю на невестушку полюбоваться. С земным расстаться. Земное держит меня крепко, я ведь и не очень стар, вон сколько старее меня. Одно утешение, что отец мой ещё раньше помер. Но он сухоточный был, а во мне в последнее время перед болезнью наоборот — полнота появляться стала, даже на брюхе кое-какой тук завёлся. Сейчас вот только снова исхудал… Так что я держу государство моё, а государство меня держит.
— Ты за него хватаешься, — сказал «кощей», — да оно тебя уже не удерживает. Ладно, царь Иван, как знаешь. Я сегодня же потеку назад в свой скит. Соскучился.
— И на праздничном пиру не побудешь, авва Нил? — спросил Иосиф Волоцкий.
— Мне на нём нечего делать, — отвечал авва. — Не люблю я всё, что от Бога отвлекает.
— Да ведь и Господь на пирах сиживал, — усмехнулся Иосиф. — И на свадьбе гулял в Кане Галилейской, не побрезговал мирскими радостями. И Святое Таинство Причастия заповедовал нам, пируя в честь праздника Пасхи со учениками своими.
— Не мучай меня, Осифе, — взмолился отшельник. — Оставь Богу Богово, а мне — моё. Я живу, как умею. И вовсе не требую от тебя или от кого-то другого отвращаться мирских радостей. Кто знает, может быть, ты после смерти на пиру пред Вышним Престолом веселиться будешь, а я на тебя из преисподнего скита взирать и о тебе радоваться. Мир сотворён Господом, и отвращаться от него — грех. Я же таковой есмь грешник, что меня мир от общения с Богом отвлекает и начинает злить, когда ради него не могу обращаться мыслью к Создателю. Прощайте мне, ежели за что не любите меня. Здравия всем желаю и непрестанно буду о вас молиться. А тебя, царь Иван, всё же буду ожидать в скиту моём. Хочешь, келью для тебя поставим, а хочешь, сам построишь, когда придёшь?
— Тут уж как ты сам… — нерешительно отвечал Иван Васильевич.
— Храни вас Господи, — поклонился «кощей», оделся в ветхую холостяную ризу, препоясался верёвкой и зашагал в сторону Тайницкой стрельницы. Какой-то другой, тоже немолодой инок пустился за ним вдогонку.
— Да и нам пора прощаться с Ерданью, — сказал будущий свекр Соломонии. — Что, Вася, где пировать будем? В Грановитой?
— В Золотой столы накрывают, — отвечал Василий.
— Надо бы в честь праздника Алёну с Дмитрием позвать, — вопросительно произнёс Державный.
— Еретичку с еретенышем?! — тотчас вспыхнул Иосиф Волоцкий. — Коли так, то я не пойду на пир.
— Ну, как знаете! — тяжело вздохнул государь Иван. — Нет, так нет. И впрямь, незачем с еретиками трапезу делить. Но со стола надо им ястия и пития послать. Пусть потешатся.
— Святой воды с них хватило бы, — не унимался Иосиф.
— Дозвольте мне их навестить с дарами, — вдруг, набравшись смелости, попросила Соломония Юрьевна. Ей давно хотелось побывать у горестной вдовы покойного Ивана Младого и её сына, засаженных в великокняжеском дворце за приставы.
— Сделай милость, голубка, утешь их, — откликнулся будущий свекр. — А ты, Осифе, не гневись хотя бы ради праздника. Еретики-то они еретики, но ведь жалко их, заблудших. И когда умру, строго-настрого запрещаю жечь их, слышите вы, ретивые?!
— Зачем они тебе, Солнышко? — спросил тихонько Соломонию Василий.