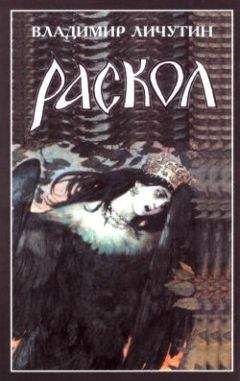Бога боялся Мещеринов иль мирского суда и государева гнева? Казалось, бери торбы и ступай в палаты за деньгою, греби, сколько утащишь.
Ведь на пути к монастырскому животу стояли лишь пятеро монахов. Одного из них, самовольщика Леонтия, кто отобрал силою ключи у духовного сына Мисаила и назвал себя казначеем, воевода одолел легко; Леонтий боялся смерти и, откупясь, сразу принес восемьсот пятьдесят рублей из своего подголовника да из монастырского сундука вынул сто пятьдесят впридачу. Леонтий, изрядно труся, готов был всю гобину отдать без счету государеву наместнику, лишь бы отступился тот. Клирошанина же Питирима, Ермогена Деревягу и бельца Василия Кирилловщину уломать не смог; пришлось пытать на стану, жечь пятки и бить еретиков кнутом, чтобы те наконец-то сдались и со всякими оговорками, но пошли на попятную, запросили пощады. Мещеринов и монаху Феоктисту, что носил ключи от кладовых на поясе, насулил лютых пыток, если не получит мзды.
«Все у тебя во власти. Чего еще хочешь? У тебя и совесть-то под пятою молчит! Ступай в чуланы и бери, сколько унесешь, – противился Феоктист, сидя за столом в приказной избе. Только что отволокли с пытки Питирима, и запах жженой человечьей плоти жил в избе. Под порогом медная сковорода с угольями попритухла, покрылась серым туском. – Чего боишься-то, Иван Алексеевич? Иль Бога не совсем отлучил из души?»
«И ничего я не боюся. С чего ты взял, монах? Ты лучше потраты мои прикинь. Иль я не отец своим людям? И у них жены, у них чади. Войско без жалованья второй год, грозится разграбить монастырь. Хлеб едим взаймы из чужой горсти, да и мои зипунишки поисхудали, животишки приоскудали. Ведь это вы, воры, меня обнищили, так и несите мне и моим людям хоть малые посулы, чтобы прорехи прикрыть. И не Бога я боюся, пред ним нет моей вины, я от вас пасуся, наушителей и клеветников. Ой, на свою голову в живых оставил. Надо бы всех посекчи разом, да и из сердца вон…»
Побагровев, налившись краской, вдруг открылся Мещеринов в самом тайном, о чем мучился в ночных мыслях да время-то просрочил, и сейчас надо было искать нового повода.
«Так и убей нас, не промедля! – воскликнул Феоктист. Отпив из ковша, набрался решимости. – Посчитай меня за разбойника, а не за сына Христова и слугу государева, да и пореши. Кто держит, а? Убей да в море смечи – и дело с концами».
Монах взмахнул манатьей, как крыльями зловещей ночной птицы, что приходит к грешнику за душою; пламя свечи в шандане загнулось и чуть не умерло. В окне было темно, лишь крупичатый снег, прислонившись к самой слюдяной шибке, посверкивал, когда играло пламя. Душно было, и чтобы не задохнуться, приоткрыли в сени дверь; оттуда тянуло в спину морозным воздухом, но от круто натопленной печи в бок монаху подпирало каленым теплом. Разговор толокся вокруг казны уж долгое время, замирая и вновь вспыхивая. Феоктист устал от гостеванья, и воли не было, чтобы уйти; вопли мучимого клырошанина Питирима так и не замирали в ушах. Феоктист невольно бросал взгляды под порог, где стоял медный таз с потускневшим угольем, и воевода, конечно, чуял скрытый страх монаха.
Феоктист вроде бы и упирался, поддразнивал воеводу, не слабея стоял на своем, но казнь чернца так и не выходила из памяти. Феоктист примерял к себе эти муки и невольно холодел, тосковал нутром. Так что же заставляло его противиться? Может, надеялся уломать Мещеринова, чтобы тот отказался от скверной задумки? А вдруг очнется от дьяволей затеи? Бог-от не за морями, а за дверями в бессонном дозоре.
«Убить-то тебя диво ли? Да стоит помучать, как вы нас мучили. Не жрамши-не спамши под стенами во всю зиму. Сколько из-за вас, поганцев, добрых людей положили голову».
«Так вы же приперлись на остров. Кто вас неволил скинуться в дурную затею? Ведь встали за неправое дело. От Христа отвернулись, а мы виновны?..»
«Да, виновны. Как Христос научал: возлюби ближнего своего, а врага веры и престола приклони под меч. А вы враги государю, пособники лукавому», – травил воевода Феоктиста, начиная новый круг осады; нюхом своим он уже чуял, как присмурнел монах, как дрожит и слабнет у него в черевах, а лядвии то и дело осыпает студными мурашами. «Допеку, сейчас допеку, – мстительно думал Мещеринов, – скоро ты у меня пощады запросишь». Он вдруг забывался и обнажал заячиные зубы.
«Это вы… Какой Христос, какой! Вы уж давно покрыли его латынской скверною, помазались любостайной малаксою, ушли от благодати…»
«И государь не благочестив, не благоверен?»
«Я этого не говорил…»
«Но мы же присланы сюда его повелением, и собор его благословил. Значит, и весь собор православный – еретический, подпал под заразу? Ну?!» – прикрикнул воевода, нащупав слабину. Феоктист поперхнулся, ощутил мышеловку, даже сердце заболело. Он любил государя, как Бога. Монах содрал скуфейку с потной головы, ему стало жарко.
«Денщик, раздуй сковороду. Иль не видишь, гость наш дюже замерз. Сейчас согреем суевера, чтоб не плутал меж государем и сотоною. Сам сблудил и народ честной толкает в бездну. Бес проклятый».
«Я этого не сказывал. Я всегда призывал молиться за государя и за то мучим был и сидел в неволе».
«По глазам вижу, что врешь. Скинывай сапоги… Денщик, пособи вору, да нос отвороти, задохнешься… Черт те что эти монахи жрут, как псы смердящие пахнут».
Денщик, веснушчатый стрелец с рыжим чубом, подкинул мелкого смолья в сковороду, подул; побежал дымок, вспыхнуло пробежистое пламя, и сквозь пепел проглянули однобоко рдяные, как осенняя клюква, уголья.
«Ну и что?.. Чего ждешь-то? Скинывайся, паразит. Иль из-за копейки поганой удавишься, как жидовин?»
«Пугаешь?..» – спросил Феоктист, заглянул воеводе в глаза и устрашился их стылому мраку.
Воевода мог бы и не отвечать.
«Нет, не пугаю», – улыскнулся Мещеринов в усы и потянул манатью с плеч монаха.
«Не бери греха на душу, Иван Алексеевич. Погоди до утра. Что за нетерпеж взял?..»
Утром, отстояв часы в соборной церкви, Феоктист, келарь Левкей, казначей Леонтий устроили совет у постели больного клирошанина Питирима.
… Церква яко сирота обругана плачет и яко вдова обидима стенает. Где заступы ждать? Жадное червие расплодилось на Руси, ползет по пажитям ее, пожирая остатки веры и совести. И до кого достучаться, от кого укрепиться?..
Про царя не вспоминали вслух, но недоумение обращалось в каждом слове к нему. Соборный старец лежал на лавке, отвернувшись к стене, так было ему ловчее, и протяжно стонал, так было легче сносить боль; на шее и спине вспухли язвы, из них сочилась кровца; редкая шерсть на загривке, подпаленная огнем, посеклась и заржавела. Ноги монах выпростал из одеяла, они были толсто обмотаны холстиной и торчали, как куклы.
Взглядывая часто на страждущего, братия решила насильнику уступить, чтобы не чаять себе погибели, но по первому вешнему пути отправить государю слезное челобитье, чтобы охранил от злодея. Старцы еще не знали, что Алексея Михайловича уже нет в живых, а на престол стал его старший сын Федор.
За монахами явился звать денщик. Бедный служивый, он смолоду еще трусил, боялся Бога, не забыл у порога лба окстить, поклониться и подойти к Феоктисту под благословение. Это утешило.
Воевода ждал у казенной полаты, проводил следом в сени, но в саму кладовую зайти не решился. Казначей Леонтий взял из монастырского сундука четыре мешка денег, два достакана серебряных с чернью, братину позолоченную, часы азарьевские боевые да шубу соболью пупчатую под черной обьярью. И передал тот откуп денщику; сколько же было вручено денег в четырех мешках, Мещеринов считать не велел.
Потом еще дважды хаживали соборные старцы в хранилища и передали денег в двух кадницах, да из соборной церкви иконы окладные, из трапезной полотенца, с написанными по обе стороны страстями Господними, из оружейной казны карабины винтовальные, да солистры, да пушчонки малые для обозов, да из книжной палаты десять старинных лечебников и рукописных книг в дорогих покровцах. Да из монашеских осиротелых келий несчетно живота растеклось по ратникам, да многое из того во мзду перепало воеводе и дьяку, и подьячему, и воинским начальникам. А с первой же лодьею, когда привезли на Соловки из Сумского острожка на корм войску хлеба и рыбы, получив весть с Москвы, отправил Мещеринов кладью три пуда денег серебряных и золотых, и жемчугу, и вещей носильных к себе в пожитки, чуя близкую грозу. И того добра уж после сыскать не могли.
С той лодьею съехал из неволи и государев стремянный Любим Созонтыч Ванюков. Он уже и не чаял видеть свободы, а она вдруг свалилась на голову, как манна небесная. Любим не успел даже расчувствовать ее с радостью. Вез он с собою и тайное челобитье соловецких старцев с просьбою передать посылку в Сумском острожке верному соляному приказчику. Воевода прощаться на берег не вышел, сидел в стану в приказной избе как сыч и пил горькую. Опухший, с окуневыми глазами, он лишь отдал Феоктисту бумагу за своею печатью и сказал, отводя взгляд: «Передай твоему дураку гулящую на три месяца… И пусть катится ко всем чертям подальше с глаз моих и молит Бога за мою доброту. Не я бы, и ты это знаешь, за то раскольничье письмо и за сделку с соловецкими ворами висеть бы ему в Тайном приказе на дыбе. Так и скажи…»