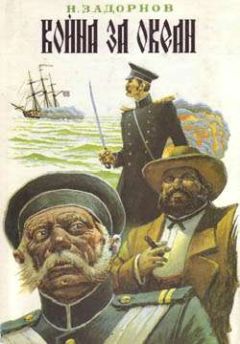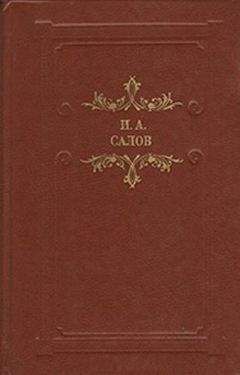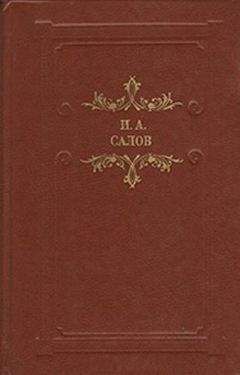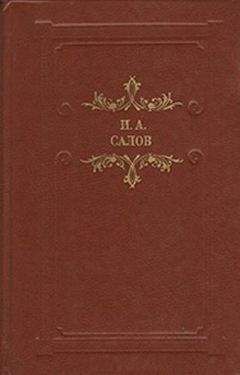Адмирал желал бы создания верной, богатой событиями, многообразной картины жизни на эскадре, изображения во всем величии движения вперед науки и русского мореплавания. Японцы дали Путятину в Нагасаки письменное обязательство, что трактат с Россией будет заключен. Это первый такой документ в истории Японии, и Путятин получил его прежде американцев, прежде всех. Разве это не тема? Зибольд написал в боннской газете, что честь открытия Японии принадлежит Путятину.
А Гончаров оказался сухим секретарем, заурядным чиновником, в свои писания почти не посвящал адмирала, а это очень оскорбительно. Не хочет быть доверчив, часто держится особняком, если и читал раз-другой наброски, так они интереса для адмирала не представляли, все мелочи какие-то и к делу настоящему отношения не имели. Оскорблением счесть можно. Нужно увековечить все, ведь не шутка — посольство, в Японии после перерыва в пятьдесят лет, и цель важна! Получается, что писатель пренебрегает временем и людьми, стоящими во главе, а уж это не может вызвать к нему симпатии. И не ради себя тревожится Путятин, а ради юношества, мог бы быть пример поучительный.
Подающий надежды писатель, оказалось, изжил весь свой талант одной книгой. Ничего больше не может сделать.
Книга Гончарова, полагал Евфимий Васильевич, могла бы быть талантливо схваченными их подлинной жизни картинами и в то же время как бы художественным отчетом его величеству государю императору о первом русском путешествии в Японию, совершенном по высочайшему повелению.
Кое-что адмирал пытался подсказать Ивану Александровичу. Да почтеннейший как только может выворачивается.
Говорят, пишет он роман, да герой его будет не энергичный деятель. Лодыря героем нового романа выбрал. Да разве лодырями сильна Россия? Ее страшится весь мир, флот, армия могучи, а он носится с залежавшимся помещиком, с байбаком! Нет, надо попытаться ему объяснить.
— «Аргунь» идет, Иван Александрович, — раздался у трапа голос Зеленого. Слышно, как Гончаров поспешил наверх, видно, оставил свои бумаги…
Вдали — видно в трубу — из волн идет дым, а может быть, не дым, не то кит фонтаны пускает, не то стая касаток.
— Да нет, что вы, это «Аргунь», в трубу же видали, это она на мгновение в волнах зарылась… Вон… Вынырнула.
— Опять какое волнение развело…
Должна решиться судьба Ивана Александровича. А ужас разбирает, как подумаешь, что адмирал не отпустит, а шхуна с Муравьевым уйдет. Итак, предстояло объяснение с Путятиным. «Опять он начнет мяться».
Гончаров понимал, почему недоволен им Путятин, чего желал бы. Еще в начале плавания он предупредил, о чем не следует писать. Многие предметы не подлежали наблюдению, а тем более описанию. Гончаров, закрой глаза! Сие не твое дело! Не мое так не мое, что же поделать, раз так!
Если слушать адмирала, то получается, что ни о чем нельзя ни писать, ни думать, кроме подвигов и славы нашего флота. Жалкая картина современного плавания сохранилась бы для потомства. Даже о сильных штормах, в которых трещал подгнивший фрегат, и об опасностях, из-за этого пережитых, прежде как лет через двадцать, видно, ничего не опубликуешь.
Иван Александрович не хуже Путятина понимал, что надо писать о современной жизни, о том, что тревожит общество. Именно за эти два года окреп и утвердился у него замысел «Обломова».
Так получилось по разным причинам. И еще потому, что родина далеко и ее беды особенно горько вспоминать здесь, в отдалении, в иных странах, в ином климате. Могли бы гордиться своей Россией с гораздо большим основанием! Много, много хорошего, свежего, чистого, трудового в русском народе, а все подавляется и портится, и это нестерпимо обидно, оскорбительно. Надо вызвать чувство достоинства в обществе. Надо возмутить общество!
Думал он про Обломова и потому, что выражение обломовских свойств видел в окружающих, в тех, кто считал себя героями, и в самом адмирале.
…Пароходик оказался вдруг ближе, чем предполагали. Маленький и черный, прыгая на волнах, он старался, как бы присматриваясь, где ловчее пристать, подойти к борту. Адмирал появился на юте. С «Паллады» стали кричать, спрашивать, какие известия с театра военных действий. Отвечали в рупор, но ветром отнесло, никто ничего не понял.
— Шхуна пришла?
— Шхуна пришла и уходит.
Теперь ясно слышно, что кричит Сгибнев. Все вздохнули облегченно, — значит, и письма из России, и газеты должны быть, раз шхуна пришла.
— А где Невельской?
— Геннадий Иванович уходит на шхуне с губернатором.
— В Аян?
— Нет, в Петровское зимовье, за семьей… Есть пакет вашему превосходительству от губернатора.
Ветер подул с огромной силой, пароходик стало относить. Да, ветер такой, что «Аргунь» никак не подойдет, уносит ее, машина слабая, не выгребет. Пошла куда-то отстаиваться с письмами и пакетами.
Глава одиннадцатая
ПРОЩАНИЕ
Странно, однако ж, устроен человек: хочется на берег, а жаль покидать и фрегат! Но если бы вы знали, что это за изящное, за благородное судно, что за люди на нем, так не удивились бы, что я скрепя сердце покидаю «Палладу»![113]
И. Гончаров
Гончаров быстро вышел от адмирала, сбежал по трапу и с силой захлопнул дверь своей каюты. Через несколько минут к нему прибежал адъютант адмирала:
— Я не желаю с вами разговаривать! Ступайте от меня! — закричал Гончаров, да так, что слышно было повсюду.
Через собственную неприятность Гончарову вдруг как-то стала ясна вся политика Путятина. В это время брошенная на произвол судьбы Камчатка, может быть, истекает кровью. И нашел же что сказать: «Как же вы покидаете экспедицию в самое важное время? Ведь вы не увидите самое главное — как документ подписывается! У вас и книги не может без этого получиться!»
Тут взорвало Ивана Александровича. И дипломатический чиновник, дисциплинированный петербуржец, встал и вышел, не желая больше объясняться.
Весь тут Путятин, весь век наш бумажный. Глушим живое, уничтожаем человеческие чувства! Расчленяем являющиеся общие интересы народов, а документ зато подпишем! Нужен трактат, слов нет, кто же станет отрицать? Да противно, как это все понимается.
Гончаров знал за собой раздражительность, когда в мыслях создаешь себе картину, быть может куда более ужасную, чем есть на самом деле. Может быть, это свойство художника, да какое кому до этого дело! А в жизни приходилось себя сдерживать. Поэтому часто, очень часто Иван Александрович, зная свою вспыльчивость, и куда она ведет, и бесцельность ее, старался ввести себя в общее русло суждений, свойственных солидному обществу. А уж очень гневны, даже красны собственные мысли, до того, что в самом себе начинаешь чувствовать опасного противника спокойному направлению. Но иногда вдруг завеса как приоткроется и… взорвет всего!
«Я уж писать разучусь подле моего дипломатического адмирала!» — с обидой и горечью думал он, решая идти на все — на открытую ссору, протест, непослушание, — но уехать.
— Что с нашим Иваном Александровичем? — говорили между собой офицеры, — Как он раскричался!
Все удивились. За два года с ним ни разу такого не бывало! Кроток, добр, любезен, иногда рассеян, как будто расстроен, но не ответит никогда резко, всегда мягко, даже многим казалось, что личное есть в его Обломове в порядочной порции. И вдруг!.. А за два года голоса не разу не повысил.
— Даже его допек адмирал!
— Да нет, господа, Муравьев приглашает к себе, дает должность якутского губернатора!
— А наш, видно, не пускает!
— Напрасно, право! Не моряк, так и не удержишь против воли!
— Право, я и говорю: зачем же держать человека, если не хочет?
— Каков Муравьев! Взял шхуну, теперь берет Гончарова.
— А чем дело кончилось? — говорили после склянок в кают-компании за обедом.
— Отец Аввакум помирил их, и, кажется, они мирно разговаривают. Но к результату прийти не могут…
— Туда велено обед подать, — сказал капитан и добавил, потирая руки: — Иван-то Александрович наконец разнес адмирала, и тот сразу стал кроток.
…Муравьев прислал Гончарову письмо, что со штабом уходит в Аян и что есть место на шхуне, приглашает с собой и все будут очень рады видеть в своем обществе Ивана Александровича. За отбывающими на материк завтра придет шхуна, которая отправилась на Сахалин за углем. Это ли не внимание! Право, приятно получить такое письмо!
— Зачем далее мне здесь сидеть, я не понимаю? — говорил Гончаров в каюте адмирала. — Не путешествие в обществе Муравьева прельщает меня, ваше превосходительство…
— Такая официальность, Иван Александрович, — с укоризной сказал Путятин. Обидно адмиралу, ведь, отправляясь в Японию, он все ставит на карту, да его не понимают.