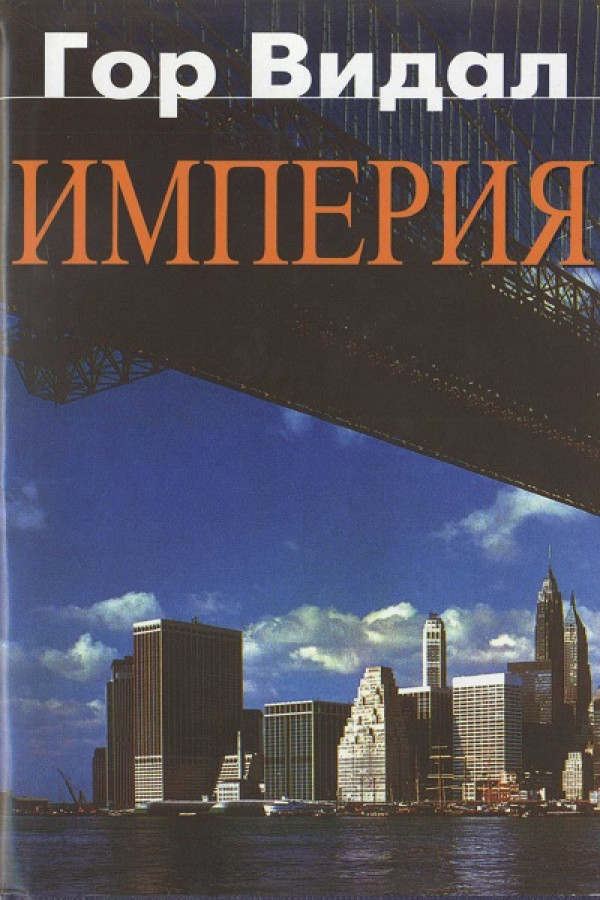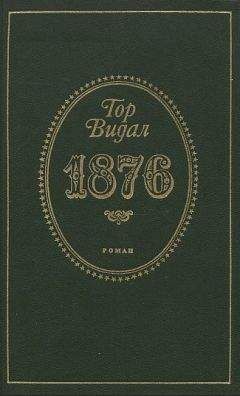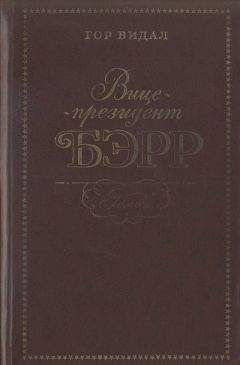Кто, по-твоему, скорей удалится в вечность? Генерал Джексон считает, что тут не угадаешь — как на скачках, но сам бедный старик, вероятно, обойдет нас обоих, несмотря на — и полковник взял в руку флакончик патентованного лекарства с наклейкой «Несравненное снадобье» — это восхитительное укрепляющее средство. Когда я встретился с президентом в Нью-Йорке, он не раз говорил мне, что обязан своим здоровьем только сему лекарству. Поскольку я никогда еще не видел человека в худшем здравии, на меня его заверения не действовали. Но потом я подумал: вот у Джексона пуля застряла около сердца, он страдает от десятка недугов; может, не умер только благодаря «Несравненному снадобью»? Теперь я принимаю его каждый день, строго следуя инструкции на этикетке. И должен сказать, оно действует на меня освежающе: полагаю, это смесь опиума и яблочного бренди.
Я записываю все просто с восхищением. Две исторические личности встречаются после тридцатилетнего перерыва и разговаривают о «Несравненном снадобье»!
Я рассказал полковнику, что Леггет прочитал его воспоминания и хотел бы с ним поговорить.
— Почему бы и нет? Что еще мне остается, как не рассуждать о прошлом?
Внезапную вспышку горечи прервал слуга, торжественно объявив:
— К губернатору пожаловал конгрессмен Ферпланк. — И тут же явился сам Ферпланк, отяжелевший, старый, скрюченный подагрой.
— Мистер Ферпланк теперь первейший среди наших адвокатов, — сказал полковник Бэрр, представляя нас друг другу.
— Я встречал вас, сэр, вместе с мистером Ирвингом, — начал я.
— Помню. Вы Старожил, не так ли?
У меня вспыхнули уши, я чувствовал, как к ним прилила кровь.
— Да, сэр. Стараюсь…
— Мне Старожил нравится куда больше чепухи мистера Ирвинга. Вы голландец, но, слава богу, не пишете о нас так, будто мы скопище эльфов в деревянных башмаках и о деревянных башках.
Ферпланк пытается уговорить конгресс выплатить полковнику Бэрру хотя бы часть денег, которые он истратил на нужды Революции. Он полон оптимизма. Но может быть, его, как и всех, заражает оптимизмом полковник.
27 августа 1835 года
Пишу дату…
Нет, начну еще раз. С самого начала.
Вчера утром Леггет пригласил меня в парк, где антиаболиционисты затевали митинг под председательством мэра. В последние дни по всей стране прокатилась волна бунтов — это все безумцы из Новой Англии и Нью-Йорка. Они требуют немедленного освобождения рабов и вызывают бешенство у белого большинства, которое поддерживает рабство и ненавидит чернокожих. Аболиционисты не успокоятся, пока не разрушат Соединенные Штаты. Я теперь антиаболиционист.
В общем, жуткое лето, холодное, ветреное, странное… убийственное для всех. И для меня.
Элен совсем изменилась. Да, после смерти нашего ребенка она сделалась холодная, вспыльчивая, странная. Но вчера она снова была, как прежде, любящая, нежная. Ну, а сам я стараюсь теперь поменьше работать, когда бываю дома, побольше разговаривать с ней, выходить с ней чуть не каждый вечер.
— Драка будет? — Элен нисколько не встревожилась, когда я рассказал ей о митинге.
— Надеюсь, обойдется. Там будет мэр.
— Тогда надену новую шляпку. — Величавое сооружение из крашеных перьев, плод творческих усилий некоей шляпницы.
Мы встретились с Леггетом в условленном месте: у кирпичных обломков недавно рухнувшей стены перед недостроенной гостиницей Астора.
Элен насмешливо посмотрела на Леггета.
— Ну, как насчет Луны? — Она показала на красноватый диск над недостроенным фасадом отеля. — Вы читали в «Сан» о том, кто ее населяет?
Леггет засмеялся.
— Чистейшее надувательство.
— Вы просто завидуете «Сан», — сказала Элен.
Она была права. Леггет завидовал. Все нью-йоркские редакторы завидуют грошовому листку, который заколачивает большие деньги, изо дня в день преподнося публике какую-нибудь сногсшибательную новинку. Сейчас «Сан» печатает серию статей о жизни на Луне, как ее увидел в телескоп английский астроном; абсолютная чепуха, а простачки клюнули.
Митинг в парке муниципалитета, конечно, оказался скучным. Ораторы один за другим осуждали аболиционистов, так как рабы — это собственность, а собственность священна. Весьма превозносили недавний приказ президента Джексона почтовым служащим — уничтожать всякую аболиционистскую литературу, какую они сочтут подстрекательской. Леггет отнесся с поразительной терпимостью к тому, что президент ограничивает свободу слова. Но все радикалы вроде Леггета легко отказываются от принципов, когда это им на руку, осуждая подобную легкость в других. Это во мне Старожил говорит. Становлюсь консервативным и нетерпимым.
Элен разочарована: митинг прошел без драки.
— Шляпа цела, конечно, но все же стычка не помешала бы. Ну, я пошла домой.
Я удивился. Она ведь хотела провести вечер с нами.
— Нет, нет. — Она говорила решительно. — А вы ступайте.
Мы подошли к воротам парка. Громадный лунный диск поднялся еще выше и по-прежнему отсвечивал красным… у лунных жителей война?
Я настоял на своем и проводил Элен до нашей улицы. Расстроился, что она (нет, надо быть предельно точным)… я обрадовался, что она идет домой (да-да, лишь себя мне клясть за глупость), что мы с Леггетом погуляем, как когда-то, в былые денечки.
Возле рынка Элен пожелала нам спокойной ночи. Она пошла к дому, и шляпка на ее голове колыхалась трогательно и нелепо. У двери она остановилась, помахала нам на прощанье. Скрылась в подъезде, а мы с Леггетом наняли экипаж и отправились в Воксхолл-гарденс.
Я выпил чересчур много пива и вернулся домой в полночь. Осторожно, стараясь не шуметь, зажег свечу; разделся в прихожей, пробрался в спальню и нырнул в пустую и холодную постель.
Элен оставила записку, она приколола ее, как медаль, на грудь манекена: «Я ухожу. Не ищи меня нигде. Завтра принесут молоко, я задолжала разносчику за две недели, заплати, я все забываю расплатиться и хочу сказать, что я прошу меня простить. Элен Джуэт».
Я гляжу на записку и думаю только о том, к чему относится это «прошу простить». За что? Что уходит? Или что забыла расплатиться за молоко?
Мадам Таунсенд была откровенна.
— Да, Элен здесь. И не хочет вас видеть.
Комната, нет, молельня мадам Таунсенд, уставлена вазами с осенними листьями. Несмотря на волнение, я подивился, уж не рассталась ли она с Буддой (золотой идол исчез) и не обратилась ли к Пану или другому земному духу.
— Мне бы хоть поговорить с ней, сказать, что…
— Мистер Скайлер, ваше поведение неэтично. — Словно зубилом по мрамору, высекалась моя эпитафия, мой приговор. — Вы явились сюда, как мне казалось, с добрыми намерениями, я доверчиво ввела вас в нашу семью — так мы себя называем на Томас-стрит, — да, в семью. Вы вошли ко мне в доверие, я впустила вас в эту комнату, и мы столько раз вдохновенно беседовали. И вот нате вам…