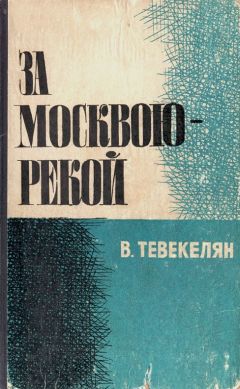— Припомни-ка, пан кум, что говорил ты мне за обедом у покойного Кречовского: «Нет Украины и не будет вовеки!» А что вышло? Вся беда в том, что ваша спесивая шляхта стремилась искоренить народ, а это невозможно. Шляхта вымрет, а народ останется. Он неискореним и непобедим. И Украина, пан комиссар, непобедима. Думаете: «Хмель помрет или уберем его со свету каким-нибудь иным способом — и конец казачеству, конец Украине». Вот в этом-то и есть ваша страшная ошибка. Хмеля не станет, а Украина будет. Будет, будет, пан комиссар! А теперь, когда Москва за нас, когда слились мы с братьями нашими в одну семью, под руку царя православного стали, сила наша крепка и мощь наша страшна. Вы это уже испытали, паны-ляхи, на своей шкуре, проста на слове, пан комиссар!
— Но, ясновельможный гетман, мы и сами поняли, в чем ошибки наши. И теперь король обещает тебе…
— Э, — пренебрежительно махнул рукой Хмельницкий, — вспомни, сенатор, что нам обещали после Замостья? А после Пилявы? После Зборовской битвы? После Батога? А что из того дано? Едва только обещания ваши попадали в руки вызувитов, на том и кончалось. — Хмельницкий засмеялся, заметив, что Любовицкий пожал плечами. — Что, не сообразишь, почему вызувитами называю я ваших ангелов смерти в черных сутанах? Поясню. Это же ваше, польское слово, — вызувит, то есть обдирало. Ведь обдирают отцы иезуиты на Руси поспольство! Скажешь, не так разве? А вызувиты вам, чуть только вы что-нибудь пообещаете, сразу говорят: не нужно соблюдать присяги и обещаний, данных схизматикам, — и вы действительно их не соблюдали. А где обещания, которые дал король при его избрании? Как только короновался, сразу же выслал войско на Украину, чтобы нас подавить. И то же самое было после позднейших договоров, которые вы с нами заключали. Поставили на постой по селам нашим и городам свое кварцяное войско. Если бы еще жолнеры ваши довольствовались тем, что необходимо для прожитья, казаки снесли бы это. Но жолнеры злоупотребляли радушием края нашего и посполитых, называли их хлопами, тяжко избивали и мучили невинных людей, грабили добро посполитых, ругались над ними и терзали нечеловеческими муками. Когда же некоторые казаки, отважные и храбрые, не в силах были сносить эти издевательства и уходили в недоступные для вашего войска места, оставляя жен и детей дома, ибо не могли взять их с собой, то жолнеры ваши насиловали жен на глазах родителей и детей, как басурманы, запирали их семьи в хатах и сжигали живьем. А когда, пан комиссар, удавалось людям вашим поймать казака, виновного в неповиновении пану, то такого сажали на кол, чтобы всем показать свою ненависть и презрение к русскому народу и Руси. Да и попов наших не миловали, убивали их без числа и довели до того, что даже и тех, кто рад был бы жить тихо и незаметно, и тех подняли против себя. Испытав все это и бессчетное число раз обманутые шляхтой и королем, мы вынуждены были взяться за оружие, и с этого пути для нас нет и не будет возврата, пан комиссар. Вот почему король напрасно молит нас о помощи и напрасно попытался бы кто-нибудь примирить казаков с панами-ляхами на прежних основах, которых уже нет.
— Ах, пан, — патетически воскликнул Любовицкий. — Хотел бы я, чтобы ты знал, что король и сейчас полон милости и доброжелательства к тебе. И он уже давно так относится к краю твоему, вот если бы только родовитая шляхта не препятствовала…
— Погоди, — остановил Хмельницкий сенатора. — Разни не король изволил в сейме изречь, будто все мы разбойники и гультяи и для нас нет иного наказания, кроме смерть на колу?
— Ах, пан! — снова воскликнул с жаром Любовицкпй. — Изволь знать — король лично повелел мне сказать тебе, что он будет считать шляхтичами не тех, кто кичится длинными рядами своих предков и родословных, но тех, кто окажет ему помощь в нынешнем тяжком положении. Уж с этой поры он не станет слушать тех псов, которые сбежали при опасности в свои конуры, оставив своего хозяина на произвол судьбы в такую пору, когда больше всего должны были оберегать его.
Хмельницкий засмеялся.
— Пан кум, а знает ли ваш король, — с умыслом, как показалось Любовнцкому, повторил он, — знает ли ваш король, что народ украинский — не одна только шляхта, что есть еще и чернь, как изволите вы говорить, и оная чернь одолела ваши армии, разгромила их, перешла Збруч и Сан и теперь под моим бунчуком стоит на Висле? Знает ли ваш король, что оную чернь взял под свою высокую руку царь Московский, что стали мы единым народом в единой державе Московской, побратавшись на веки вечные? Об этом, видно, не думает ваш король. Нет, пан посол, не жить нам отныне в одной хате, под одною крышей.
Любовицкий печально понурился. Хмельиицкий между тем взял королевскую грамоту, пробежал наскоро и снова положил на стол. он сказал есаулу, чтобы принесли вина и что-нибудь закусить.
— Ведь ты, пан кум, пожалуй, проголодался в дороге.
Любовицкий выпил вина и взял на вилку кусок солонины. Хмельницкий пригубил чарку, но пить не стал.
— Да неужто ты думаешь, пан гетман, что никогда уже не быть Украине под рукой Речи Посполитой? Неужто нет способа возвратить ее в прежнее состояние? — с надеждой в голосе спросил Лгобовицкий.
— Э, пан, вижу, ничему не научили вас, шляхтичей, эти годы, — Хмельницкий коснулся рукой лба, как бы снимая с него какую-то заботу, и мирно продолжал: — Расскажу тебе одну побасенку, весьма поучительную.
В давние времена жил хозяин, очень зажиточный, так что даже все соседи завидовали ему. В доме у этого хозяина поселился уж, который никого из домашних не кусал. Хозяйка даже ставила ему порой немного молока в горшочке, и уж ползал между домашними. Но случилось однажды, что, когда поставили молоко детям, уж, вылезший из своей норы, приполз к миске и стал хлебать молоко из чашки, а сынок хозяина ударил его ложкой по голове. Уж, рассерженный этим, укусил мальчика. Тот закричал. Прибежал отец и спросил, что случилось. Узнав, что уж укусил сына, он схватил топор, но уж, спасаясь, успел спрятать в нору свою голову, и хозяин отрубил ему только хвост.
Сын хозяина вскоре умер, а уж остался уродом и больше не осмеливался выходить из норы. Но после этого и достаток хозяина начал уменьшаться и пропадать. Придя под конец в крайнюю бедность, хозяин, желая узнать причину этого, обратился к знахарям:
«Скажите, прошу я вас, что это значит? В прежние годы я меньше заботился о хозяйстве, а всего у меня было много. Ни у кого не было так много волов и таких прекрасных, как у меня. Ни у кого коровы не давали столько молока. Ничьи овцы не приносили такой мягкой шерсти и столько ягнят, как у меня. Нигде кобылы не приносили лучших жеребят. Нигде поля не давали лучшего урожая. Ничьи ульи не гудели от такого множества пчел. Стада мои не страдали прежде от болезней. Сам я не знал никаких неприятностей. Никогда дом мой не стоял без гостей. Нищий не выходил никогда из моего дома с пустыми руками. И ни в чем не было недостатка, но всякого добра было в изобилии. А вот за несколько лет все, что я собрал за целую жизнь, так рассеялось, что между соседями нет никого беднее меня. И хоть я тружусь теперь для поддержания своей жизни гораздо больше, ничто не помогает, но с каждым днем идет все хуже и хуже. Так вот скажите, если знаете, причину моего горя и, если можете, посоветуйте, как пособить беде».
На это знахари ответили:
«В прежние годы ты жил в мире со своим домашним ужом, он принимал на себя весь яд, всю заразу и все беды, грозившие тебе, а тебя оставлял свободным от них. А теперь, когда между вами возникла вражда, все бедствия обрушились на тебя. Если ты хочешь прежнего благополучия, примирись с ужом».
Услыхав это, бедняк, воротясь домой, рассказал все своей жене и приказал ей поискать способ возобновить старую дружбу с ужом.
Та начала ставить молоко в удобных местах, и, напившись его раз и другой, уж начал выходить из поры. Тогда хозяин, увидев его однажды, начал уговаривать возобновить старую дружбу. Но уж ответил:
«Напрасно хлопочешь, чтобы вернулась та дружба, какая была между нами когда-то. Всякий раз, как только погляжу на свой хвост и вспомню, что потерял его из-за твоего сына, снова возвращается мой гнев. И точно так же ты, как только вспомнишь, что из-за меня лишился сына, отцовское чувство приводит тебя к тому, что ты готов и голову мне отрубить. Поэтому на будущее удовольствуемся нынешней дружбой, и ты хозяйничай как тебе угодно в своем дому, а я буду держаться своей норы, и, насколько возможно, постараемся не вредить друг другу».
— Вот так, пан посол, — сказал Хмельницкий, переводя дыхание и глядя Любовицкому в глаза, — надо понять и казаков с польскими шляхтичами. Было время, когда в Речи Посполитой и те и другие жили более или менее спокойно. Казаки отклоняли от королевства грозящие опасности, на себе вынося натиск орды, а жители Короны не досадовали, если казаки похлебают молока в тех углах их земли, куда не заглядывали почитающие только себя истинными сынами королевства. Тогда королевство польское процветало. Сияло своими рыцарями казаками, которые создавали ему безопасность. И куда только поляки ни ходили походом совокупно с казацкими силами, они возвращались победителями, воспевая свой триумф. Тогда никакой неприятель не вывозил добычи из польского королевства. Но постепенно папы начали нарушать казацкие вольности, бить казаков по голове, а казаки тоже начали гневаться и кусаться. И вышло так, что у многих из них головы отсечены, а многих замучили паны-ляхи нечеловеческими муками, но и ваших поляков немало погибло. И всякий раз, когда тому или другому из противников приходят на память причиненные ему бедствия, поднимается гнев. И хотя бы начали мириться, но от малейшей причины раздор снова возникает. Теперь даже мудрейший из смертных не сможет иначе установить между нами твердый и продолжительный мир, как если только польское королевство откажется от всех притязаний к земле украинской, княжеству русскому, уступит казакам нашу Русь вплоть до Владимира, Львова, Ярослава и удовольствуется тем, что казаки, сидя на своей земле, на Руси, будут отражать наших общих врагов — татар и турок. Но что ж? Если даже сотня панов останется в вашем королевстве, они но согласятся на это добровольно! А казаки, пока держат оружие, никогда от этих условий не откажутся. Так что напрасно трудишься, кум. Словам короля и сейма не верю. А если бы я поверил — никто в краю нашем не поверит. Нам вашей земли не надо, а бы на нашу не зарьтесь. Награбили паны-ляхи чужого — и лопнули. Московское царство ныне в великой силе. Оно нам — щит и надежда. Где теперь Белая Русь? Где Литва? Где Червонная Русь? Уж не говорю о землях по обоим берегам Днепра, вдоль Горыни и Збруча! Если ты ехал, пан посол, подговаривать меня на отступничество, такого не будет. Что решено на Великой Раде в городе Переяславе — это совершено на веки вечные, за что наши потомки не раз скажут нам спасибо. Это, пан кум, было целью моей жизни, и когда ты у Кречовского, покойника, за обедом говорил — вот Украины и не будет, — хотелось мне сказать еще тогда: «Не хвались, идучи на рать». Но я промолчать решил. Я научился терпеть и молчать. Беда научила, горе выпестовало мое терпение.