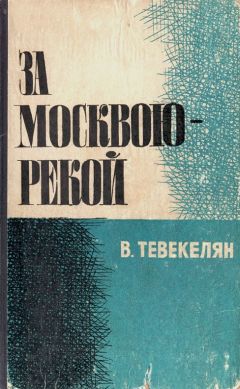Хмельницкий поднялся. Это означало — аудиенция окончена. По обе руки гетмана, вытянувшись, стояли генеральные есаулы.
В таборе затрубили трубы. Любовицкий беспокойно оглянулся. Стоял перед гетманом, обескураженный и приниженный. Хватаясь за последнюю соломинку, как утопающий пловец, льстиво заговорил:
— Наияснейшая королева Мария-Луиза, надеясь, что я застану твою милость, паи гетман, в твоей резиденции, написала письмо твоей супруге. И просила передать ей подарок — этот перстень.
Сенатор положил на стол перед Хмельницким письмо, перевязанное голубою лентой, и в открытой шкатулке, отделанной бархатом, золотой перстень, в венчике которого сверкал огнями алмаз.
— Письмо пани королевы передам жене, а перстень, пан посол, возьми. Не знаю, примет ли его моя жена. Куда ей, простой казачке Ганне из рода Золотаренков, братья которой получили от короля двенадцать приговоров о лишении чести и с десяток приговоров об изгнании, принимать такие подарки? Может, пани королева не знала этого? А если бы знала, не простирала бы так далеко и сердечно свою ласку. Возьми, — твердо произнес Хмельницкий, возвращая шкатулку побледневшему Любовицкому.
— Еще скажу тебе, пан посол, — заговорил Хмельницкий, когда сенатор начал откланиваться. — Знаю, что паны-ляхи да и сам король на меня всяческие наветы чинят, лгут на меня, ничем не брезгуя; не стану поминать уже о том, что иезуиты из кожи лезут, лишь бы меня жизни лишить. Обо всем этом знаю хорошо. И пускай хорошо знают паны-ляхи: совершенное в Переяславе в тысяча шестьсот пятьдесят четвертом году в январе месяце восьмого дня — вечно и нерушимо. Смотрите, панове, чтобы ваша чернь не поставила всех вас вверх ногами. Со всех сторон идет она в мой табор с косами и кольями. Радзивиллы и Потоцкие уже давно в печенках сидят у черни вашей. Оставили ее, горемычную, на поживу шведам и басурманам. Вы ей глаза отводили, будто я иду с казаками и стрельцами уничтожать ее, — а зачем? Не против нее иду, а против шляхты. И чернь ваша это уже увидела и хорошо поняла. Не нас она боится, а вас.
Устыженный и обозленный оставлял Любовицкий казацкий лагерь. В Клетинцах, в монастыре босых кармелитов, посол остановился на ночлег. Здесь уже ожидал его нужный человек, который сообщил, что татары в десяти днях конного пути от Волыни.
Теперь, после неудачи у Хмельницкого, оставалось как можно скорее встретиться с ордой.
На следующий день, когда Любовицкий отправился дальше на юг, его на Волынском шляху остановили казаки. Как ни пытался польский сенатор уговорить их, чтобы пропустили его в маеток пана Грондского, где он хочет перебыть свой недуг, казаки заворотили рыдван. Когда Любовицкий начал требовать, чтобы его снова допустили к Хмельницкому, вышел из табора есаул Лисовец и при всех казаках, окруживших рыдван, сказал:
— Ясновельможный пан гетман Богдан Хмельницкий велел сказать тебе, чтобы ты возвращался немедля в коронные земли. Все равно с татарами тебе не встретиться. А будешь, пан посол, настаивать, так воротим тебя под стражей.
Заскрежетав зубами, Любовицкий приказал слуге поворачивать лошадей на запад.
К сердцу каждого человека, как бы хозяин ни замыкал его, всегда найдется ключ.
Генеральный писарь Иван Выговский верил в это нерушимо. Более того — знал твердо: он хорошо овладел умением отпирать чужие сердца своими ключами.
Было время, когда сам гетман Хмельницкий хвалил это писарево уменье. Даже, шутя, не раз говаривал:
— Умелый ключарь писарь Выговский.
Было такое время!
Миновалось…
Мало ли что было! Все же было и такое: считалось между старшиной, генеральный писарь — правая рука гетмана. Послы иноземные, негоцианты, мужи святой церкви — кому с ними докучные дела вести, как не Выговскому? Что и говорить, талант был у генерального писаря на это. Иному и от таких дел только заботы и неприятности, для него они — точно карасю пруд. Нырнет и вынырнет.
У генерального писаря для таких дел всего было вдосталь. И поклониться умел, как кому следовало, и по-латыни поговорить, церемонии всяческие до топкости знал, а уж если с поляками переговоры вел, только и шелестело на тонких губах под тщательно закрученными кверху усами:
— Падам до ног милостивого папа!
— Льщу себя надеждой еще раз выслушать милостивого пана!
— Как рад видеть перед собою вашу милость!
Словом, талант имел генеральный писарь на такие дела.
Улыбки были наготове, он точно вынимал их из кармана и, когда нужно, прилеплял к своим тонким губам то ласковую, то дружескую, то услужливую, а если понадобится — и братски-сердечную.
На это пан Выговский был великий мастак.
…Когда-то ключом к сердцу гетмана была шляхтянка Елена.
Не стало этого ключа. Лаврин Капуста сломал ключ. Сердце гетмана Хмельницкого теперь заперто накрепко. Ключа теперь не подыскать. Но существуют и иные пути…
И хотя генеральный писарь теперь не тот уже генеральный, что был несколько лет назад, но силу он все же имеет. Обязан он этим, как считает сам, исключительно собственному уму. За последнее время он даже добился того, что среди старшины появились такие полковники, с которыми бы мог говорить более или менее откровенно, — Полуботок, Сулима, Григорий Лесницкий. Люди все почтенные, шляхетные. Пытался он найти общий язык и с Богуном, но только ухудшил прежние отношения с ним. Зато Тетеря — другое дело. Но и в отношении Тетери остерегался. У этого переяславского полковника тоже гетманская булава в мыслях. Уж не успели ли отцы иезуиты ему что-нибудь пообещать? Если только Выговский убедится, что это так, придется убрать Тетерю, как он в свое время убрал Гладкого.
Слишком больших успехов достиг Хмель после Рады в Переяславе, чтобы действовать сейчас без оглядки, не соблюдая осторожности. Тем более что и сами иезуиты требовали от Выговского осторожности. Теперь он даже заколебался отчасти: из чьих рук вернее добывать булаву — из польских или из шведских? Поэтому решил выжидать. Выжидать и, как червь, точить фундамент, на котором основывал свое согласие с Москвой гетман.
Что ж, если его отодвигают в тень, если Мужиловский главный советник в переговорах с чужеземцами, если Капуста ездит в Турцию, а Мартын Пушкарь что ни день обедает с гетманом, — может, это для генерального писаря и лучше. В тени ему удобнее делать свое дело с большей уверенностью и незаметно для чужого глаза. А глаз этот порою заглядывал не туда, куда хотелось бы генеральному писарю. Неумолимая рука Капусты проникала в его окружение с каждым разом все настойчивее и ощутимее. По стало Фомы Кекеролиса, Иеремию Гунцеля ради собственной безопасности самому пришлось отравить. Теперь Капуста захватил шведского негоцианта Виниуса и Степана Гармаша.
— Ну, ничего, у Гармаша есть крепкая рука — генеральный есаул Демьян Лисовец. Он-то своего тестя защитит перед гетманом. А Виниуса шведское посольство выручит. Что касается монаха аббата Даниила, тот сам вывернется. Хорошо одно — что он, Выговский, с этим Даниилом еще не встречался. Но весточку шведам через людей подканцлера Радзеевского пришлось послать. На всякий случай пусть шведы знают: он к ним со всей душой, и если они идут на Украину и Москву, то лучшего гетмана, чем Выговский, для них не будет.
При особе гетмана был он теперь уже не тем видным державцем, как когда-то. Но и сейчас еще гетман без него не мог обойтись. Случись другому терпеть такие обиды, как Выговскому, тот стал бы огрызаться, а тогда добра не жди. Выговский, отстраненный от переговоров с иноземцами, прибрал к рукам все другие дела, как, например, управление имениями и маетностями, сбор чинша, хозяйство полков.
И если в городах и селах поднимались жалобы и стоны, а то и крики возмущения, если города, где действовало дарованное гетманом магдебургское право[25], подымали шум из-за несправедливых податей и поборов, то здесь была его, Выговского, твердая и жестокая рука. Чем больше недовольных будет в краю, тем лучше для него.
И он всячески плодил недовольных, а если случалось по этому поводу столкнуться с гетманом. Выговский только руками разводил: мол, чтобы вооружить войско для такой большой войны, нужны большие деньги.
Хмельницкий в ярости стучал кулаком по столу, точно перед ним были не доски, покрытые скатертью, а голова генерального писаря.
— Ведь Речи Посполитой чинша не платят, панам Потоцким и Вишневецким не даем ни злотого, а куда же деньги идут?.. Куда, спрашиваю?
— На войсковые нужды, ясновельможный пан гетман, на поисковые нужды.
Этот ответ всегда выручал. А еще больше помогало выворачиваться то, что события сменялись, одно значительнее другого. За словами «на войсковые нужды» скрывать можно было многое…
Некоторое время молчала Варшава. Странствующие купцы не привозили ни писем, ни извещений на словах. С отцом Евстафием и братом Даниилом за бокалом мальвазии или за чаркой водки толковали о новых маетностях, отом, как лучше сбыть мед на предстоящей осенней ярмарке и не стоит ли отправить на новгородский торг купленные отцом у персидских купцов шелка, адамашки и драгоценные индийские кружева, В такие часы досуга и более важное но забывалось. Оно всегда было рядом. И во многих делах, связанных с этим важным, отец и брат были верными помощниками.