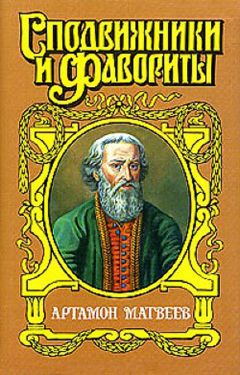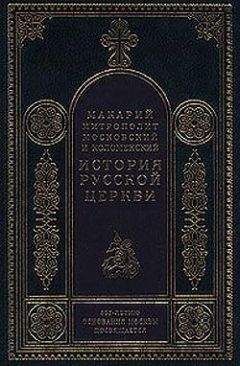Артамон Сергеевич принёс Аввакуму бумагу, перо, чернила. Сынок же его Андрей Артамонович на саночках приволок милостыню для всех четверых сидельцев: по пятку рубин да по туеску морошки.
— Слышал я, замирение у вас? — полюбопытствовал Матвеев-старший.
Аввакум насупился:
— Ради старца Епифания согрешил. Старец прост, а Фёдор и рад чистую душу сетьми своими опутать. Горько мне было Епифания потерять, вот и лазил к Фёдору мириться. Кланяюсь ему, прощения прошу, а сам и не знаю, о чём мои поклоны. Фёдор-то обрадовался — сломил-де Аввакума. Давай блевать на Троицу, а я будто и не слышу. Старец рад, бедный... Но примирение наше внешнее, о внутреннем и подумать боюсь.
— Ах, батька! Плохонький мир Богу угоднее, нежели война. — Артамон Сергеевич изумлялся страстотерпцам. Будто не в ямах — на горных вершинах восседают. Царей судят, патриархов клянут, народы благословляют! О божественных тайнах разговоры у них как о домашнем. Аввакум о Троице вещает, словно еженощно ходит перед Вышним Престолом.
— Артамон, Артамон! Ты говоришь о войне как боязливый и малодушный, о ком заповедано: пусть идёт и возвратится в дом свой, дабы не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце.
«Ишь — пророк!» — усмехнулся про себя Артамон Сергеевич, вслух сказал:
— Верно, мне ли о войне лясы точить. Я лет тридцать—тридцать пять всего воевал. И о мире какие у меня понятия? Искал для Московского царства мир всего-то пять-шесть годков.
— Чего серчаешь? — Аввакум перекрестил из ямы Артамона Сергеевича. — Я о мире да о войне духовной. Великие подвижники — не нам чета — и те зевали, мирились с бесами, а потом блевали от того соблазна. Людям надо почаще головы свои щупать, не растут ли рожки? А всё ради покоя, ради мира, смердящего мертвечиной.
— Стражи поглядывают. Пойдём с Андрюшею. Помолись о нас, батюшка.
— Спаси вас Бог!
— Домна, супруга Лазаря, челобитье подавала. Воевода Гаврила Яковлевич бумагу с пятидесятником в Москву отправив.
— Сколько этих челобитных писано! В царском Тереме не токмо нас, горемык, боятся, но и чад наших. Моих детишек по ссылкам да по тюрьмам с самого рождения мыкают. Алексей, друг твой, шепнул бесенятам своим: искоренить Аввакумово племя! По сю пору искореняют. А он, Тишайший-то, безумный лжец Богу, — в смоле ныне сидит.
— Не люблю, батька, когда несёшь несуразное. — Артамон Сергеевич перекрестился. — Пошли, Андрюша.
— Посидишь с моё, иные песни на ум придут! — крикнул Аввакум вдогонку. — Да не серчай на меня, Артамон! Люблю твою немочь!
Охая, полез задвинуть окно-продух, глянул, не идут ли к ямам караульщики.
Артамона с бумагой, с чернилами сам Бог послал. У Аввакума лежал в тайнике недописанный ответ на послание чадушки Сергия Крашенинникова. В игумены избрали. Письмо батька киноварью писал, да иссякла, и лист-то был последний.
Перечитывал, что ранее сочинилось, бестолково, раза по три каждую строку: никак остыть не мог от разговора с Артамоном. Приходит, подкармливает, беседы ведёт. А помнил ли об Аввакуме, когда пироги-то царские лопал? Истина понадобилась, когда пихнули под зад с тёплого места. Истина, она ведь — нищенка.
Аввакум тряхнул головой, отметая досаду. Для письма — любезным чадам сердце нужно в любовь окунуть. Оказалось, киноварь-то иссякла на горячем месте. Не грех вразумить чадушек.
«Ты говоришь, огненный во мне ум, — начертал Аввакум и засопел, вразумлять так вразумлять. — И я сопротив молыл. Прости: облазнился, — реку, — ты, чернец, и в кале тинне помышляешь сокровенну быти злату и сребру. Не ведётся, мол, тово, еже драгое камение полагати в говённый заход, тако и в мой греховный арган непристойно внити благодатному огненному уму. Разве по созданию данному ми разуму отчасти разумеваем и отчасти пророчествуем».
Последней фразой апостола Павла помянул, послание коринфянам. Потеплело в груди. Игумен Сергий с радостью и с надеждою писал о дочери мученицы, княгини Евдокии Урусовой. Княжна Анастасия Петровна подвиг матушки своей почитала за служение Христу и сердцем была с Аввакумом, со всеми страдальцами. На смотринах царь Фёдор Алексеевич приметил красоту княжны. И очень даже приметил. Аввакум за сиротку порадовался.
«И Настасья, хотящая быть ц., пускай молится обо мне. Смешница она, Сергий, хочет некрещенных крестить. Я говорю, вото, реку, какую хлопоту затевает! Их же весь мир трепещет, а девая хощет, яко Июдифь, победу сотворить. Материн большо у неё ум-от. Я её маленьку помню, у тётушки той в одном месте обедывали. Бог её благословит за Беликова и честнова жениха! Девушка красная, княгиня Анастасьюшка Петровна, без матушки сиротинка маленькая, и Евдокеюшка, миленькие светы мои! Ох, мне грешнику!»
Расплакался, вспомнив дочерей княгини — невесты! А он их отроковицами Знал. У обеих глазки-то светили, аки звёздочки. Приписал: «Слушайте-тко, Евдокея и Настасьюшка, где вы ни будете, а живите так, как мать и тётка жили: две сестрицы здесь неразлучно жили и в будущий век купно пошли...»
Сказать нужно было ещё многое. Аввакум спрятал чернила, перо, бумагу, стал на молитву. Просил Господа доброй судьбы Настасье и Евдокии, помянул Андрея-отрока, сына Матвеева, положил поклоны, прося милости Божией низверженному из боярства. Артамон не был своим. Хоть по лбу его тресни, не отступается от Никона.
Вдруг быстрые скрипы и радостный зов:
— Аввакум! Батька!
Аввакум отодвинул продых. Артамон Сергеевич стал коленями в снег, заглядывая в яму.
— От царя милость, от Фёдора Алексеевича! В Мезень нас с сынишкой переводят. Гаврилу Яковлевича на воеводство в Мезень, а нас с Андрюшей на житье.
Дивное было известие, нежданное. Аввакум потянулся, погладил Артамона по щеке:
— Вот и слава Богу! Отвезёшь письмишко моей Анастасии Марковне, робятам моим, внучатам.
— Отвезу, батька! Да ведь не нынче, не завтра в дорогу. Надо ждать, когда новый воевода приедет. Дошла твоя молитва о нас с Андреем.
— От Мезени до Москвы уж рукой подать! — Аввакум даже не улыбнулся.
— И о тебе великий государь вспомнит.
— Как вспомнит, так пуще прежнего запрет. Нас была в избах жить поместили, а царь вспомнил — и обратно в ямы запихал.
— Ох, Аввакум! Мезень — такой же край земли, но, сам знаешь, показало солнышко искорку среди кромешной тьмы, а надежда уж на весь долгий день без заката.
— Спаси тебя Бог! — Аввакум, отирая слезу со щёк, потихоньку запел: — «Услыши, Боже, глас мой, внегда молити ми ся к Тебе, от страха вражия изми душу мою. Покрый мя от сонма лукавнующих, от множества делающих неправду».
Насвистал прилетевший на весну скворец дорогих гостей дедушке Малаху. Сначала приехал Егор. Великий государь Фёдор Алексеевич слышал о несчастье мастера, но ему-то и заказал две иконы: святую Агафью да Илью-пророка. Заказ был сделан тайно. Царь не хотел, чтобы святую с именем Агафья писали в Оружейной палате, смотрины невест всё ещё продолжались.
А Егор и рад — в Рыженькой пожить. Мастерскую решил устроить в собственных хоромах, а спать, есть — под кровлей отцовского родного дома, по-крестьянски.
Мученица Агафья послужила Господней славе во времена императора Декия. Была она богата, слыла в родном граде Палермо первой красавицей. Римляне привезли христианку в Катану, сначала прельщали нарядами, пирами, требуя взамен принести жертву идолам, а потом кинули в тюрьму, рвали грудь железными когтями... Бог не оставил святую. Ночью Агафье явился апостол Пётр, укреплял, врачевал, и от жестоких ран не осталось даже малого следа.
Набираясь духовных сил для работы, Егор наложил на себя строжайший трёхдневный пост, первые сутки не ел не пил, и тут приехала Енафа с Малашеком. Ради семейного праздника пост пришлось отложить.
Дед на внука не мог нарадоваться — Егор не коротышка, а Малашек не токмо мать или старика, но и дядю на вершок перерос. Четырнадцать лет. Жених.
— Вовремя тебя Бог привёл, — сказал внуку Малах. — Утром собираюсь в поле.
Повёл на конюшню. Задали овса любимой лошадке. Добрая труженица узнала Малашека, потянулась к его рукам губами. Дед показал приготовленную упряжь, соху, борону.
— Соха-то у тебя новая! — порадовался Малашек.
— Сошники с полицей, с отвалом. Кузнец-молодец вишь как отбил — прямо ножи. Думаю, нынче пустить соха в соху. Крестьянская наука простая: кто ленив с сохой, тому всё год плохой! — Малах погладил рукоятки.
Малашек углядел:
— Вроде старые!
— Старые, — улыбнулся Малах. — Привычные к моим ладоням, да и твои знают. Сошка-сошенька — золотые роженьки. Пораньше нынче ложись — подниму чуть свет. А может, ты уж барчуком заделался?
Малашек насупился: