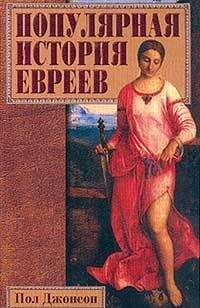Случилось это в 50-х годах с кантонистами Нижнего Новгорода.
— Здорово ребята! — приветствовал инспектор выстроившуюся перед ним роту.
Все молчали.
— Да что же вы, ребята, молчите? — начал он. — Недовольны, что ли чем? Говорите прямо.
— Недовольны, всем недовольны, всей нашей жизнью недовольны.
— Кто недоволен? Шаг вперед!
Вся рота шагнула вперед. Инспектор нахмурился.
— Выборные вперед! — продолжал инспектор.
Три кантониста выступили с разных сторон: Михаил Бахман, Николай Мараев и Василий Васильев. Это были парни лет 18. Воцарилась жуткая тишина.
— Чем же вас обижают?
— Чем нас обижают? — со вздохом повторил Бахман. — При вас кантонисту задней шеренги сейчас разбили в кровь губы, а вы и не видите. Неужто вы затем сюда присланы, чтобы на ваших глазах лилась наша кровь? Неужто ж и в вас, так же, как в наших начальниках, нет к нам ни капли жалости? — Бахман, волнуясь и прерывисто дыша, остановился.
— И ты, мальчишка негодный, смеешь так дерзко говорить? Арестовать его!
— Не дадим! Не дадим его арестовать! — крикнула рота. — Арестовать — так и нас всех арестуйте: он говорил за всю роту, всякий из нас то же самое сказал бы вам.
Инспектор задумался.
— Что же, арестуйте, я ареста не боюсь; заодно уже пропадать, — продолжал ободренный Бахман. — От нас вон и на почте писем не принимают: начальство боится жалоб. Вам, быть может, хотелось бы, чтобы мы, как прежде, кричали: «Всем довольны», но мы дольше не можем молчать.
Следующим заговорил Мараев.
— Ваше превосходительство, осмеливаюсь доложить вам, что здесь неволят евреев креститься. Узнает, например, начальник, что будет их раза два-три в год человек по 100, по 200, и уж заранее шлет унтер-офицеров стеречь их хорошенько. Приведут в холодную комнату без кроватей, без тюфяков, отнимут съестное и запрут под замок. И валяются они на голом полу, стуча от холода зубами и плачут.
— Ну, а ты, что скажешь? — спросил инспектор третьего.
— Да осмелюсь доложить, — начал Васильев, — житья совсем нет: холодаем, голодаем, терпим всякие тиранства. Кто начальству денег не даст, кто у него спросит свои, присланные из дома, того за это бьют, да и плакать не велят.
Инспектор удалился, и через пару дней кантонисты узнали, что он уехал к себе.
Был воскресный день, и по случаю праздника многие были отпущены в город, другие занимались своим делом.
Бахман, Мараев и Васильев, депутаты, выступившие перед инспектором, задумчиво сидели на одной из кроватей.
— Теперь мы окончательно пропали, братья.
Они не обманывали себя насчет того, что их ожидает.
— Бежим! — вполголоса проговорил Мараев.
— Куда? А ну, как поймают? — спросили товарищи.
Ночью того же дня Бахман повесился в уборной.
Утром его тело сняли с петли, унесли в часовню лазарета, а суток через трое завернули труп в тряпье и, положив в наскоро сколоченный ящик, взвалили «гроб» на телегу. Кучер со сторожем свезли его за околицу и закопали в болоте, на кладбище самоубийц.
Мараев и Васильев, твердо решившие бежать, выполнили свое решение, и их исключили из списков как без вести пропавших. По заведению распространили слух, будто они утонули. Начальство так заключило, когда на берегу реки нашли их куртки и шинели.
Прошли еще две недели, и в казармы привели Мараева, закованного в кандалы. Убежав из заведения вместе с Васильевым, они забрели в какой-то городишко на ночлег. Там полиция задержала Мараева на базаре; целых трое суток он упорно молчал и этим дал возможность Васильеву скрыться. Потом признался и был отправлен по этапу в заведение.
Ночь перед наказанием Мараев провел в мучительном раздумье, а утром, когда за ним пришел конвой, он принял решение и отправился за получением наказания.
Перед выстроенными кантонистами нетерпеливо ожидал Мараева начальник школы полковник Курятников. Барабанщики тоже были готовы, были заготовлены и розги, вымоченные в горячей соленой воде.
— Прочтите, ваше высокоблагородие, хоть вот эту записку вперед, а там...
Мараев вынул из-за обшлага шинели сложенную вчетверо бумагу, на которой ровно ничего не было написано, и, подойдя вплотную, подал ее.
Полковник взял в руки бумажку и стал ее развертывать. В это самое время Мараев схватился обеими руками за его эполеты, один он полностью сорвал, а другой — наполовину; вырванным эполетом ударил полковника по лицу. Офицеры и фельдфебели бросились на Мараева, повалили на землю и в исступлении начали стегать его.
На голове и ногах его сидели солдаты, а два барабанщика уже рвали розгами живое мясо из его тела. Ему отсчитали около 500 ударов и полумертвого стащили в лазарет. Через некоторое время военный суд приговорил Мараева к каторжным работам на 8 лет. Прощаясь с товарищами, Мараев, уже страшная, неузнаваемая тень прежнего красивого, здорового юноши, искренне радовался своему избавлению от кантонистской жизни. Он не допускал даже мысли, что на каторге жизнь может быть хуже, чем в заведении кантонистов.
Трагедия с Васильевым разыгралась несколько лет спустя.
Однажды в канцелярию школы ввели под конвоем мужчину лет 25-ти, заросшего бородой, в арестантской одежде и кандалах. То был Васильев. За конвоем стояла молодая женщина, держа за руку мальчика лет шести.
История странствования и возвращения Васильева была довольно коротка. Пробравшись за несколько сот верст от Нижнего Новгорода, он достал чужой паспорт. Поселился в маленьком городишке и трудом накопил небольшой капитал, женился и занялся торговлей. Родился мальчик. Тихо, мирно прожил он таким образом несколько лет. Временами грустил, вспоминая мать и сестру. В такие минуты Васильев пил. Однажды, будучи навеселе, неосторожно открылся тестю, а тот, в пылу ссоры с зятем, — выдал его полиции.
Полиция сперва высосала из него все его деньги, а потом засадила в тюрьму, разузнала откуда он родом и отправила в кантонистскую школу в Нижний Новгород.
Васильев упорно отрицал, что он бывший кантонист, выдав себя за мещанина, как было указано в приобретенном им паспорте. Тогда начальник школы велел ввести монашенку. Взглянув на арестанта, она пошатнулась и, зарыдав, хотела броситься ему на шею.
— Он, батенька, он, мой брат Вася! — сквозь слезы заговорила монашенка. — Вася, голубчик, ведь это же ты, мой сердешный.
— Убирайся прочь от меня! — озлобленно крикнул арестант и оттолкнул ее от себя.
Монашенка не унималась, несмотря на упорное отрицание со стороны Васильева. Судьба Васильева была решена. Его жестоко избили и сослали в арестантские роты за долгое пребывание в бегах, за фальшивый паспорт и за упорное запирательство. Сына его, как рожденного от кантониста, отдали в кантонисты, а жена, видя, как глумились над ним и, лишившись не только мужа, но и сына, сошла с ума и покончила с собою.
А судьба Бахмана...
Своего отца он не помнил. Больная мать попрошайничала и кормила мальчика, но они кое-как жили. Бахману было 11 лет, когда его схватили и потащили в кагальную избу. Там уже находилось больше десятка мальчиков, попарно скованных по ногам. Его тоже сковали с одним мальчиком и так он жил в той избе две недели. Потом повели в «прием», признали годным и вместе с другими отправили в губернский город. Мать потащилась за ним пешком. В дороге конвойные издевались над ней. Бывало, посадят ее на задок подводы, рядом с сыном, поедут пошибче, и как только колесо попадет в яму, они столкнут женщину, а сами ударят по лошадям. Упадет бедная в грязь, а конвойные хохочут, любуются, как она потом бежит за ними вдогонку не переводя духа. Мучители приостановят лошадей, посадят ее, проедут 2-3 вёрсты, опять столкнут и снова потешаются. Бахман не смел заступиться за мать. Все издевки она выносила ради сына. Сидя возле него она украдкой поцелует, поплачет над ним. Конвойным, наконец, надоело возиться с жидовкой, они ее отвели в полицию, а оттуда отправили под конвоем обратно в ее местечко как беспаспортную.
Спустя месяцев пять Бахман прибыл в Нижний Новгород, где вынужден был принять православие.
Истязания, хроническое недоедание и многое другое побуждали кантонистов совершать побеги. Беглецов народ не выдавал, укрывал и кормил, зная каким мучениям они подвергаются в школах-казармах. Иногда бегство спасало, и беглецы как бы в воду канули, но многих, спустя год, два и больше, приводили обратно с бритыми головами. Беглецов наказывали перед всем батальоном с невероятной жестокостью, дабы другим неповадно было бежать.
Беглеца раздевали донага. Для батальонного командира выносили стул, чтобы его благородие не утомился от долгого стояния. В подобных случаях барабанщикам было приказано «бить корешками»; они обматывали руку тонкими концами розог, а били другим концом, чтобы было больнее. Для беглецов назначали по много сотен ударов, и редко кто выживал после экзекуции.

![Яков Брафман - Книга Кагала [3-е изд., 1888 г.]](https://cdn.my-library.info/books/174341/174341.jpg)