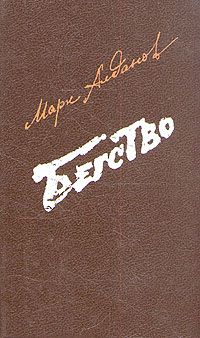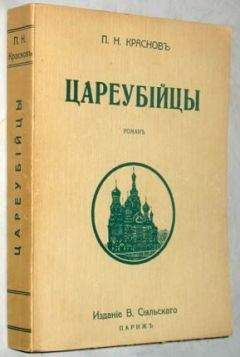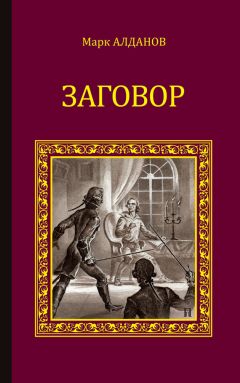Он говорил быстро и оживленно, но изредка как-то странно спотыкался в слогах.
— Ну, уж это мое дело, — сердито ответил промахнувшийся Штааль, отходя от биллиарда и садясь к столику.
— Твое, разумеется, — согласился Насков. — Но зачем же, сын мой, ты сердишься, аки тигра лютая?
«Совсем это не остроумно, „аки тигра лютая“, — подумал Штааль, почти с ненавистью рассматривая лысую голову, помятое лицо без ресниц и бровей, неряшливый костюм своего партнера. — И ведет себя скоморохом, и говорит, как скоморох. Вечно острит, вечно лжет».
Насков вынул мелок из кармана, намелил кий и нескладно опрокинулся туловищем на биллиард. Руки у него всегда немного дрожали. Но по покачиванию прицела, по особой легкости удара, по тому, как Насков, в неудобной позе, держал между указательным и большим пальцами передний конец кия, сразу виден был мастер. Все три шара сошлись в углу. Насков спустил правую ногу с борта, опять намелил кий кубиком и легонько повел шары по борту. «Четыре, пять, шесть, — считал мысленно Штааль. — Теперь до десяти дойдет! Опять я проиграл…»
Он как бы равнодушно отвернулся и взялся обеими руками за кий, поставленный толстым концом на некрашеный дощатый пол. В длинной узкой комнате дневной свет слабо сопротивлялся свету ламп в стеклянных шарах, спускавшихся с потолка к биллиардам. У окна на узеньком кожаном диване, прижавшись тесно друг к другу, скромно сидели два зрителя, стараясь не касаться плечами висевших около них на стене чужих кафтанов и шинелей. В грязноватых зеркалах отражались лампы, стойки с киями по стенам, озабоченные раскрасневшиеся лица и белые рукава игроков. Все три биллиарда были заняты. Отовсюду, вперемежку с неровными голосами и смехом, слышался сухой стук шаров, более громкий при первом ударе и слабый, иного тона, при втором. В биллиардной в одни и те же часы неизменно собирались одни и те же люди. Эта длинная, темноватая по углам зала, на чужой взгляд неприветливая и неуютная, для них была родным домом, и всякое явление мира они расценивали главным образом по тому, как к нему здесь отнесутся. По истечении двух-трех лет, по вечным законам биллиардных, одна группа завсегдатаев внезапно куда-то исчезала, уступая место другой такой же. Только редкие люди были связаны с биллиардной раз навсегда: до ее закрытия или до своей смерти. К таким одиночкам относился Насков, давно уволенный со службы дипломат и опустившийся человек. Штааль принадлежал к предшествовавшему поколению завсегдатаев. Теперь, в этой зале, кроме Наскова, он не знал, даже в лицо, почти никого. Ему было грустно.
«Неужели не дойдет больше до меня очередь?.. За десять перевалило. Этот может, однако, не выйти, — думал Штааль, невольно поводя плечом, как бы помогая своим движением шару Наскова уклониться от цели. — Нет, сделал и этот…»
Насков столкнулся задом с игроком соседнего стола и остановился, рассеянным мутным взором глядя на игру соседа. Затем опять наклонился над биллиардом.
— Два всего осталось. Плакали, сын мой, твои денежки, — сказал Насков, опять нагибаясь над биллиардом. — Так… И этак… Напоследок три борта… Пребезмерно мне сие любезно.
Он положил в карман протянутый Штаалем золотой.
«Теперь заговорит о своем фамильном происхождении или глупые анекдоты начнет рассказывать… И конец каждого анекдота повторит два раза», — подумал Штааль.
— Больше не желаешь играть? На дискрецию? — спросил Насков.
— Не желаю.
— Не сердись, светик. Мне всего дороже соблюдение твоего здоровья… Позволь, ради Бога, мне пойти вымыть руки.
Он надел кафтан и энергичной, подрагивающей походкой направился в уборную, нескладно размахивая руками и странно сгибая колени, точно он все время шагал через препятствия. Штааль смотрел ему вслед и не без удовольствия думал, что Насков болел дурной болезнью: он сам всем об этом рассказывал со смехом, как о случившейся с ним когда-то забавной истории, которой, по-видимому, он не придавал никакого значения. «А нос у тебя и очень может провалиться», — думал Штааль, сожалея, что неудобно напомнить об этом Наскову.
— Время мое, Кирилл, — сказал он лакею, убиравшему шары. — Принеси-ка мне бутылку портеру, — добавил он неожиданно для самого себя: ему не хотелось ни пить, ни оставаться в накуренной биллиардной.
— Слушаю-с.
На третьем биллиарде играли в пять шаров игроки-завсегдатаи, звезды нового поколения. На их партию смотрело человек десять. Спиной к Штаалю, с любопытством следя за игрою, стоял сгорбленный старик. Штааль бегло скользнул взглядом по его спине и желто-седому затылку.
«В Париже биллиарды больше наших, — подумал он почему-то. — И кии там кривые, шары толкают толстым концом…»
— А, ты портеру потребовал, тигра лютая, — весело сказал вернувшийся Насков. — Увлекательная мысль.
Он вытер руки о панталоны, налил полный бокал и выпил залпом.
— Будь здоров!..
«Из этого стакана не пить», — отметил в уме Штааль.
— Послушай, как влачатся твои дела с божественной Шевалье? — спросил развязно Насков, очевидно желавший развеселить проигравшего приятеля. — Мне говорил Бальмен…
— Никак.
— Рифма: чудак! Есть еще рифма, но об оной умолчу (он приложил палец к губе и сделал испуганное лицо, затем быстро засмеялся).
— Ты думаешь, так легко сойтись с госпожой Шевалье?
— А ты думаешь, так трудно? У тебя есть сто рублей?
«Нет», — хотел было ответить Штааль и утвердительно кивнул головой.
— Тогда завтра, часов в пять, поезжай к ней с посещеньем.
— Да я не знаком!
— Сие не требуется, сын мой. Ты приказываешь доложить. Божественная тебя принимает. «Madame, je suis très malheureux…»[47] — (Насков хорошо владел французским языком и считал необходимым грассировать; однако грассированье у него, как у всех нарочно картавящих людей, совершенно не походило на французское). «Сударыня, мне до смерти хочется попасть на ваш бенефис, но, увы, все билеты расписаны за два месяца. Вы одни можете ввергнуть меня в блаженство…» Тут ты бросаешь на стол сто рублей.
— Не видала она моих ста рублей.
— Видала, натурально. Но она бережлива, как всякая француженка, и жадна, как всякая актерка. Ста рублей за билет, стоящий три, рядовой дурак не даст. Кроме того, ты красивый мальчик. Я вижу отсель ее благосклонную улыбку.
— А дальше что? — спросил заинтересованный Штааль.
— Дальше ты можешь, например, сказать, что ты видел в Париже в ее роли знаменитую Нунчиати. Разумеется, ты ее и во сне не видал, но это не имеет никакого значения. «Ах, вы бывали в Париже?.. Простите, мосье, я не разобрала вашу фамилию». Ты называешь. Она ничего не понимает в русских фамилиях: ей все одно — что Шереметев (у него неожиданно вышло: Шемеретев), что Штааль…
— Или что Насков.
— Pardon, я Бархатной книги…
— А я шелковой, — сказал Штааль и сам покраснел от того, что так глупо сострил. — К тому же у нас нет под рукою Бархатной книги.
— Позволь. Я тебе докажу. Мой пращур…
— Не трудись.
— Впрочем, не в этом дело. Повторяю, божественная ничего не понимает. Ты горячо восклицаешь, что Нунчиати и Давиа не достойны быть у ней служанками. Она мило и конфузливо улыбается: «Мосье, вы преувеличиваете…» — «Сударыня, я клянусь…» Клянись всем, что придет в голову, это тоже не имеет значения. Если хочешь, моей жизнью, не препятствую. Цени любезность, потому что по правде Давиа много лучше твоей Шевалье. Кому и знать, как не мне: не скрою, дело прошлое, прелестная Давиа дарила меня своей милостью…
— Об этом я что-то не слыхал.
— Cher ami[48], ты тогда бегал под столом. Я потратил на нее более ста тысяч.
— И того не слыхал. Я думал, ты и десяти тысяч не имел сроду.
— Ты думал? Так ты не думай. Ежели ты будешь думать, то что будут делать Аристотель, Платон, Фукидид? Кстати, ты знаешь, как звали жену Фукидида? Фукибаба… Понимаешь: жена Фуки-дида Фуки-баба.
Он залился мелким смехом.
— Старо! Еще в училище слышал.
— Старый друг лучше новых двух. И даже лучше новых трех… Passons…[49] Я продолжаю. Божественная улыбается еще милее и безмолвственно взирает на тебя с вожделением. На твоей очаровательной фигуре, к счастью, ничего не написано: может быть, у тебя, опричь наличного капиталу, сто тысяч душ. Ты просишь дозволения бывать в доме. «Ах, я буду очень рада…» Dixi.
— Скорее всего, меня просто не примут: «Барыня велели узнать, что вам угодно?»
— Tiens[50], об этом я не сделал рефлексии… Впрочем, это не беда. Ты становишься нахален: «Скажи, что имею важнейшее персональное дело». Девять шансов из ста… я хочу сказать, девять шансов из десяти: тебя примут.
— Ну а ежели у меня нет сейчас свободных ста рублей? — краснея, сказал Штааль.
— Ах вот что, — разочарованно протянул Насков. — Тогда другое дело. К сожалению моему, я беру назад все ценное и мудрое, что было мною сказано. Тогда проклинай свою столь плачевную судьбу. Человек, не имеющий ста рублей, не достоин звания человека. Dixi.