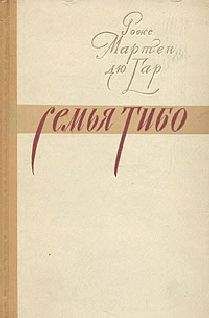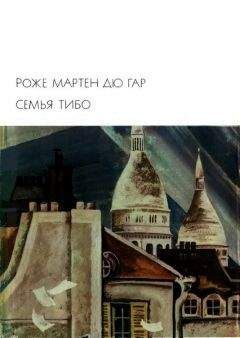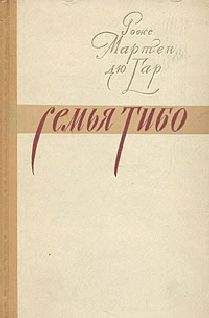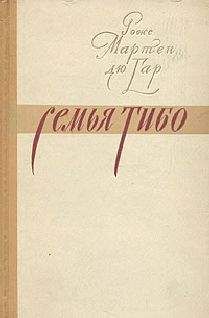- Отвергните себя самое! Самоотречение - те же дрожжи, ибо так же, как дрожжи преображают муку, так и самоотречение преображает дурную мысль и дает подняться Добру! - И продолжал, выпрямляясь: - Итак, если хочешь, Господи, возьми к себе ее дочь, возьми, она отрекается от нее, она покидает ее! И если тебе нужен ее сын...
- Нет... нет...
- ...и если тебе нужно взять и сына ее, да будет исторгнут и он! Пусть никогда не ступит он больше на порог материнского дома!
- Даниэль!.. Нет!
- Господи, она вверяет своего сына твоей Мудрости, вверяет по доброй воле! И если супруг ее тоже должен быть отнят, да свершится и это!
- Только не Жером! - застонала она, подползая на коленях.
- Да свершится и это! - продолжал пастор еще более восторженно. - Да будет так, без спора, по Воле твоей, о источник Света! Источник Блага! Дух!
После короткой паузы он спросил, не глядя на нее:
- Принесли ли вы жертву?
- Сжальтесь, Джеймс, я не в силах...
- Молитесь!
Прошло несколько минут.
- Принесли ли вы жертву, полную жертву?
Не отвечая, она в изнеможении опустилась на пол возле кровати.
Прошло около часа. Больная была неподвижна; лишь голова, покрасневшая и отечная, металась по подушке из стороны в сторону; дыхание было хриплым; в открытых глазах стыло безумие.
Внезапно пастор вздрогнул, словно г-жа де Фонтанен окликнула его, хотя она не шевельнулась; он стал возле нее на колени. Она выпрямилась, ее черты слегка разгладились; она долго смотрела на маленькое, прильнувшее к подушке лицо, потом развела руками и сказала:
- Господи, да будет Воля твоя, не моя.
Грегори не шелохнулся. Он ни на мгновенье не сомневался, что рано или поздно эти слова будут произнесены. Глаза его были закрыты; всеми силами души он взывал к милосердию божьему.
Время шло. Порою казалось, что девочка теряет последние силы, что последние искры жизни угасают в ее глазах. Потом тело начинало трястись в судорогах, и тогда Грегори брал руку Женни и, сжимая в ладонях, говорил со смирением:
- Мы пожнем! Мы пожнем! Но надо молиться. Помолимся.
Около пяти часов он поднялся, укрыл ребенка соскользнувшим на пол одеялом и отворил окно. В комнату ворвался холодный ночной воздух. Г-жа де Фонтанен, по-прежнему стоявшая на коленях, даже не сделала попытки удержать пастора.
Он вышел на балкон. Рассвет едва брезжил, небо еще хранило металлический цвет; улица темнела, точно таинственный ров. Но над Люксембургским садом уже светлел горизонт; по улице плыли клубы тумана, окутывая, точно ватой, черные купы деревьев. Грегори напрягся, чтобы унять дрожь, и стиснул руками перила. Утренняя свежесть колыхалась под прикосновениями легкого ветра и овевала его влажный лоб и лицо, изнуренное бессонной ночью и молитвой. Крыши уже начинали синеть, ставни четко выделялись на закопченном камне стен.
Пастор обратился лицом на восход. Из темных глубин ночи вздымалось к нему широкое полотнище света; мгновенье - и розовый свет разлился уже по всему небу. Природа пробуждалась; мириады лучезарных молекул искрились в утреннем воздухе. И вдруг он почувствовал, как его грудь наполняется новым дыханьем, как сверхчеловеческая сила пронизывает все его существо, приподнимает его над землей, делает огромным и всемогущим. На какой-то миг к нему приходит сознание безграничности своих сил, его мысль повелевает вселенной, он может решиться на все, может крикнуть этому дереву: "Трепещи!" - и оно затрепещет; может крикнуть этой девочке: "Встань!" - и она воскреснет. Пастор простирает руки, и вдруг, подхватывая его порыв, листва на улице вздрагивает: с дерева, растущего под балконом, с хмельным щебетом срывается огромная стая птиц.
Он подходит к кровати, кладет руку на голову коленопреклоненной матери и восклицает:
- Алилуйя, dear! Полное очищение свершено!
Он наклоняется к Женни.
- Мрак изгнан! Дайте мне руки, славная моя.
И ребенок, который за последние двое суток почти не понимал обращенных к нему слов, протягивает руки.
- Посмотрите на меня!
И блуждающие глаза, которые, казалось, уже утратили способность что-либо видеть, устремляются на него.
- Он избавит тебя от смерти, и твари земные пребудут в мире с тобой. Вы здоровы, малышка! Больше нет мрака! Слава богу! Молитесь!
Взгляд ребенка обрел осмысленное выражение, девочка шевелит губами; кажется, что она и в самом деле хочет молиться.
- Теперь, my darling, можно закрыть глаза. Тихонько... Вот так... Спите, my darling, вы здоровы! Вы заснете от радости!
Через несколько минут, впервые за пятьдесят часов, Женни дремала. Неподвижная голова мягко погрузилась в подушку, на щеки легла тень ресниц, дыхание стало спокойным и ровным. Девочка была спасена.
VI. Серая тетрадь
Это была ученическая тетрадь в сером клеенчатом переплете, обычная ученическая тетрадь, которая могла курсировать от Жака к Даниэлю, не привлекая внимания учителя. Первые страницы испещрены были записями такого рода:
"Напиши даты жизни Роберта Благочестивого8".
"Как правильно - rapsodie или rhapsodie?"
"Как ты переводишь eripuit?"[10]
Дальше шли замечания и поправки, которые относились, очевидно, к стихам Жака, написанным на отдельных листках.
Вскоре между двумя учениками завязывается регулярная переписка.
Первое - и довольно пространное - письмо написано Жаком:
"Париж, Лицей Амио, третий класс "А", под бдительным оком Ку-Ку, он же Свиная Щетина, понедельник, день семнадцатый марта месяца, 3 часа 31 минута 15 секунд.
В каком состоянии пребывает твоя душа - в равнодушии, чувственности или любви? Я склоняюсь скорее к третьему, ибо это состояние свойственно тебе более других.
Что касается меня, чем больше я исследую свои чувства, тем более убеждаюсь, что человек ЭТО СКОТИНА и что одна лишь любовь может возвысить его. Это - крик моего раненого сердца, и оно не обманывает меня! Если бы не ты, дорогой мой, я оставался бы тупицей и идиотом. И если я трепетно тянусь к Идеалу, этим я обязан тебе.
Мне никогда не забыть этих мгновений, увы, слишком редких и слишком кратких, когда мы безраздельно принадлежим друг другу. Ты - моя единственная любовь! И никогда не будет у меня никакой другой любви, ибо тысячи страстных воспоминаний о тебе тотчас обрушились бы на меня. Прощай, я весь горю, в висках стучит, глаза заволокло. Ведь правда, ничто никогда не сможет нас разлучить? О, когда, когда мы будем свободны? Когда сможем жить с тобою вдвоем, путешествовать? Я буду восхищаться чужими странами! Вместе впитывать в себя бессмертные впечатления и вместе, пока они еще не остыли, преображать их в стихи!
Ненавижу ждать. Напиши мне как можно скорее. Хочу, чтобы ты ответил мне до четырех часов, если ты меня любишь так же, как я тебя люблю.
Сердце мое обнимает твое сердце, как Петроний обнимал свою божественную Эвнику9!
Vale et me ama![11]
Ж."
Даниэль ответил на следующей странице:
"Я чувствую, что если бы я даже жил под чужими небесами, - то небывалое и единственное в своем роде, что связует наши души, все равно подсказало бы мне, что происходит с тобой. Мне кажется, время не властно над нашим сердечным союзом.
Не могу выразить, какие чувства я испытал, получив твое письмо. Ты был мне другом, и ты им стал теперь еще больше. Ты сделался поистине половиною меня самого! И я способствовал формированию твоей души точно так же, как ты способствовал формированию моей. Господи, пишу эти строки - и чувствую, как это удивительно верно! Я живу! И все живет во мне - тело, дух, сердце, воображение, - живет благодаря твоей привязанности, в которой я не усомнюсь никогда, о мой истинный и единственный друг!
Д.
P.S. Я уговорил маму загнать мой велосипед, который в самом деле мне ни к чему.
Tibi![12]
Д."
Еще одно письмо Жака:
"О dilectissime![13]
Как можешь ты быть то веселым, то грустным? А меня даже в минуты самого бесшабашного веселья вдруг одолевает какое-нибудь горькое воспоминание. Нет, я чувствую, никогда мне больше не быть легкомысленным и веселым! Предо мною всегда, как привидение, будет маячить мой недостижимый Идеал!
Ах, как мне бывает порою понятен экстаз тех бледных монахинь с безжизненными лицами, которые проводят всю свою жизнь вдали от этого слишком реального мира! Иметь крылья - и лишь для того, чтобы разбить их - увы! - о решетки темницы! Я одинок во враждебном мне мире, мой горячо любимый отец не понимает меня. Я ведь еще не стар, но сколько уже у меня за плечами увядших цветов, сколько утренних рос, что стали дождями, сколько неутоленных сладострастных желаний, сколько горьких утрат!..
Прости, любовь моя, что я так мрачен сейчас. Вне сомненья, я пребываю в процессе формирования: мой разум кипит, да и сердце тоже (и даже еще сильнее, если это вообще возможно). Сохраним же связующие нас узы! С тобою вдвоем мы избегнем подводных рифов - и водоворотов, именуемых наслаждением.