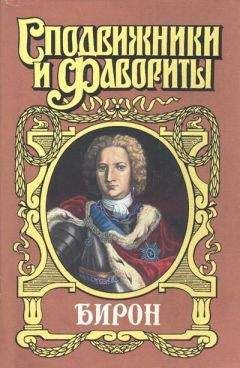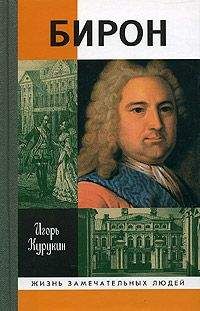Началась долгая политическая митавская «заваруха».
VII
Перед приездом великого чародея
Прошло несколько недель после тех событий, которые шквалом налетели на Митаву.
Тоска, уныние царили в герцогском замке. Анна Иоанновна, потрясенная неудачным романом с принцем Морицем, впала в состояние глубокой апатии. Целыми днями она бродила, как тень, по унылым комнатам своей раззолоченной «темницы», а то просто переворачивалась с боку на бок на софе.
Злоба, глухое раздражение овладевали герцогиней все с большей силой. И, точно нарочно, словно издеваясь над ней, перед глазами вставали картины веселой, блестящей придворной петербургской жизни.
Ах, этот блеск, эти величественные дворцовые залы, наполненные толпой раболепных, угодливых придворных, жадно ловящих мимолетно-небрежный взгляд повелителей! Как манил он к себе, как страстно хотелось бы изведать упоение властью!
Анна Иоанновна была теперь уже не прежней молодой царевной, глупенькой, чуть-чуть забитой, растерянной. Это была уже достаточно пожилая женщина, в самом опасном критическом возрасте: ей шел тридцать восьмой год.
Безвозвратно схоронив лучшие годы в митавском заточении, претерпев массу уколов самолюбию, изведав, правда, кое-какую любовь, любовь «тайную», иной раз вовсе не до влечению сердца, Анна Иоанновна неудержимо рвалась к другой жизни, более яркой, лучезарной.
И в это-то вот время то, что составляло отличительную черточку ее характера — суеверие, достигло наивысшего напряжения.
Случайно горящие три свечи приводили ее в ужас.
— Вон одну! Вон! — кричала герцогиня на своих придворных.
Если же к этому злосчастному предзнаменованию примешивалось еще заунывное вытье ветра в старых печах Кетлеровского замка, несчастная Анна Иоанновна совсем падала духом, тряслась, бледнела.
«Смерть… Неужели я должна умереть, когда меня так тянет к иной, блистательной жизни?» — мелькала у нее страшная мысль.
Она глубокой ночью подымала трезвон, призывала к себе то одну, то другую гофмейстерину, приказывала зажечь все канделябры и рассказывать ей какие-нибудь «сказания», но только не мрачного характера.
Так проходила ночь, за которой следовал тоскливо-унылый день.
«Своего» Петра Михайловича герцогиня почти не видела: Бестужев, «влопавшийся в зело опасную для него переделку по курляндско-морицевской заварухе», отчитывался и отписывался вовсю… Призрак грозной опалы стоял перед ним неотступно. Курьеры мчались из Митавы в Петербург и обратно.
В Петербурге происходили «по сей оказии курляндской» заседания Верховного тайного совета, в которых принимала участие сама императрица Екатерина Первая.
Дикое, необузданное нашествие Меншикова на Митаву, его более чем неприличное поведение с курляндскими властями и с Морицем не на шутку испугали Петербург. Там совершенно правильно поняли, что от вандализма «светлейшего» может выйти изрядный скандал.
В Верховном тайном совете был получен указ императрицы:
«Понеже ныне курляндские дела находятся в великой конфузии, и не можем узнать, кто в том деле прав или виноват, того для надлежит освидетельствовать и исследовать о поступках тайного советника Бестужева…»
Совет оправдал Бестужева; но на другой день императрица, сама присутствовавшая на заседании, объявила, что по ее мнению Петр Бестужев не без вины: указы ему были посланы, а он поступил обратно им.
Несмотря на это, Екатерина приказала прекратить дело.
— Ваше императорское величество, а как вам благоугодно смотреть на притязания светлейшего князя Меншикова на герцогскую курляндскую корону? — задали императрице вопрос некоторые из верховников.
— Я рассуждаю так, господа, что желание светлейшего быть герцогом Курляндским несостоятельна. До сего король прусский и поляки допустить не могут, — ответила императрица.
Это был первый удар грома той грозы, которая собиралась над головой зазнавшегося выскочки-вельможи.
* * *
В последнее время Анна Иоанновна стала замечать, что баронесса Эльза фон Клюгенау упорно, под всевозможными предлогами, старается избегать встречи с ней.
«Что это с ней?» — пришло как-то на ум герцогине, и она пригласила к себе свою гофмейстерину.
Красавица вдова не осмелилась ослушаться воли ее светлости: слишком уж повелительно и настоятельно было это приглашение.
— Что с вами, любезная баронесса? Я вас не вижу по целым дням… Вы все хвораете? — спросила Анна Иоанновна.
— Да, ваша светлость… Мне нездоровится, — стараясь не глядеть в лицо своей повелительнице, хмуро ответила та.
— Что же происходит с вами? И, если вы больны, отчего не обратитесь к доктору?
Насмешливая улыбка пробежала по губам баронессы, но она, поспешив скрыть ее, ответила:
— Ах, ваша светлость, вы так добры… Но…
— Что «но»? Договаривайте!
— Но не все доктора могут принести облегчение. Быть может, вы согласитесь с этим сами?
— Я? С какой стати? — вспыхнула герцогиня.
Она сразу поняла все: эта «красивая баба» намекала ей на Морица, который под видом доктора явился на их первое тайное свидание. Так вот какова она, эта «преданная немецкая божья коровка»! Она жалит, язвит…
— Потрудитесь, милая, говорить яснее! — гневно произнесла Анна Иоанновна. — Почему я должна быть осведомлена в искусстве докторов?
— Прошу простить меня, ваша светлость, но вы, кажется, не так изволили понять меня, — печально ответила баронесса. — Я хотела сказать, что врачи тела часто бессильны врачевать душу.
— А ваша душа болит?
— О да, ваша светлость!
— Что же с вами происходит? — удивилась герцогиня, обладавшая короткой памятью.
— Вы должны это знать, ваша светлость, — прозвучал вдруг ответ гофмейстерины.
— Я?!
— Да, вы… Помните ли вы, ваша светлость, что вы обещали сделать для меня? — И Эльза Клюгенау в упор посмотрела на свою повелительницу. — Вы обещали великодушно быть моей «свахой», как вы изволили выразиться… Я люблю Эрнста Бирона… Прежде он выказывал ко мне симпатию, любовь… Но признание никогда не могло сойти с моих уст…
Анна Иоанновна отпихнула ногой обитую атласом скамеечку.
— А, вы вот о чем!.. — каким-то странным, не своим голосом начала она. — Вы о Бироне?.. Но, послушайте, моя милая баронесса, мне кажется, что если мужчина любит женщину, а женщина — его, мужчину, то… какое же тут требуется еще посредничество третьего лица? В подобных случаях оно скорей нежелательно…
— Как когда!.. — глухо, неопределенно ответила баронесса.
Анна Иоанновна холодно бросила ей:
— Ступайте!.. Вы больше мне не нужны сейчас. А с моим обер-камер-юнкером я поговорю…
Этот холодный, суровый ответ многое объяснил баронессе: недаром в это последнее время она подметила ревнивым взором женщины, что Эрнст слишком часто посещает герцогиню.
— Ради Бога, ваша светлость, сделайте милость, не говорите ему ничего об этом! — умоляюще воскликнула она.
— Ступайте! — последовал вторичный властный приказ.
Клюгенау покорно вышла.
По ее уходе Анна Иоанновна, чисто по-московски, «по-измайловски» всплеснув руками, воскликнула:
— Да что же это такое, матушки? Или весь свет белый пошел против меня? Замуж захочешь идти — не смей, потому какие-то проклятые «конъюнктуры» не сходятся; если так просто, поразвлечься желаешь — тоже не смей: немка какая-нибудь протестует: «Мой он, дескать, а не ваш». А что же мне на сем свете принадлежит? Ничего, кроме тоски, скуки, слез да одиночества?
И Анна Иоанновна решила объясниться с Эрнстом.
Бирон явился в этот вечер к ее светлости в особенно бодром, приподнятом настроении духа. Он понимал, что герцогиню необходимо «подстегивать», по его любимому «лошадному» выражению, иначе она совсем сомлеет со скуки и наделает, чего доброго, таких чудес, за которые ее удалят из Митавы. А ведь еще большой вопрос: потянет ли она его за собой?.. Случай с Морицем, только чудом не разрушивший всех его горделивых, честолюбивых планов, заставил «милого Эрнста» стоять настороже, быть начеку.
— Ваша светлость, вы опять скучаете? Это видно по вашему лицу, — начал ловкий «конюх», склоняясь на одно колено перед герцогиней и покрывая поцелуями ее руку.
Анна Иоанновна отдернула ее, хотя без гнева.
— А тебе весело, Эрнст Иванович? — насмешливо спросила она. — Ишь, как ты разгорелся…
Бирон улыбнулся:
— Я не могу веселиться, ваша светлость, когда моя повелительница скучает.
— Ого? Ты — такой верный раб?
При слове «раб» Бирона передернуло. Впрочем, эту резкую фразу он сейчас же поспешил «смягчить», переделать по-своему:
— Когда солнце не светит, все люди становятся несчастными, хмурыми… Я хотел предложить вам, ваша светлость, какое-нибудь развлечение… Вполне необходимо встряхнуться…