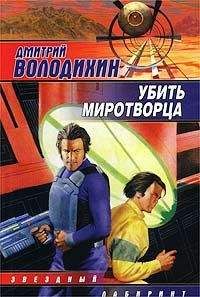В эти длинные июльские вечера казалось, что застыли не только лужские боры; казалось, что и сама война затихла на какое-то время, и в этом затишье опять чувствовался некий ужас – чуть ослабленное подобие ужаса ленинградских улиц.
Стази, несмотря на теплый вечер, зябко куталась в выданную ей чужую немытую шинель, одновременно чувствуя и гадливость от запаха пота, грязи и, наверное, даже крови – и странное возбуждающее чувство, которое теперь часто охватывало ее среди этих потных, грубых, жестоких мужских толп. Это чувство проснулось в ней еще тогда, когда она добиралась сначала до Луги, а оттуда на телеге в сторону Плюссы. Было ясно, что дела плохи, и хуже того – непредсказуемо плохи, но все же пока еще находилось немало мужчин, особенно из майоров и полковников, что смотрели на нее с плохо скрываемым вожделением. Стази никогда не считала себя красивой – скорее, необычной и стильной, но эта обрушившаяся на нее похотливость заставила быстро выучиться видеть все словно через стеклянную стену. Вот и сейчас она смотрела из своего стеклянного кокона на лениво переругивавшихся штабных шоферов, копавшихся в «эмке» у бывшей молочни, и казалась себе не то спящей красавицей, очнувшейся в ином мире, не то бесполезной и злой на весь мир сучкой. Неожиданно из главного флигеля послышалась какая-то возня, мат, и на резное крыльцо выскочил ординарец начштаба с растерянным и даже испуганным лицом.
– Новинская, твою мать! Что расселась? Живо в машину!
Через минуту они уже мчались в сторону станции, и ногу Стази больно царапал планшет полкового комиссара.
– Что за спешка-то, товарищ комиссар? – не выдержала она.
– А вот ты нам сейчас и расскажешь, что за спешка, товарищ Новинская, – вздохнул вместо комиссара пожилой и какой-то уютно-домашний командир полка.
Но не успела Стази удивиться или даже испугаться, как «эмка», подняв облако пыли, затормозила у последнего перед Лугой полустанка. На перрончике стояли несколько растерянных солдат, а на путях – раскаленная даже на вид дрезина. В деревянном станционном здании, однако, было полутемно и прохладно, а в углу единственной комнатки сидел на стуле невысокий и чем-то очень похожий на комполка немец. Что это немец, было ясно даже не по его форме, а по золотым очкам, набриолиненным волосам, а главное, по выражению превосходства в лице. У остальных же на лицах царили недоуменье и тревога.
– Вот, видите ли, товарищ командир, – путаясь и сбиваясь, зачастил железнодорожник, – мы, значит, тут… я расписанье проверял, а он, значит, как ни в чем не бывало… и не торопится, сволота, и песенку еще насвистывает. Как у себя дома, значит…
– Приступайте, – остановил его комполка и устало сел, махнув комиссару, а потом поглядев на Стази.
– Ваше звание, воинское подразделение, цели? – не очень уверенно начал комиссар.
Немец внимательно выслушал вопрос, переведенный Стази с ее вечной склонностью к швабскому диалекту. За это ей здорово доставалось от профессора Иконниковой, но здесь профессора не было, и говорилось в свое удовольствие.
– Hier liegt vermutlich ein Fehler vor[33], – вместо ответа удивился немец. – Da unsere Armee bereits am neunten Juli Pleskau eingenommen hat, ist allen klar, dass sie sich zum jetzigen Zeitpunkt bereits in Luga befinden muessen[34].
– Что?! – Лицо комполка посерело, а Стази невольно ахнула: всем было известно, что немцы движутся на западе и востоке, а Лужский район относительно спокоен, и немцев тут никто не ждет. Правда, только вчера штабной адъютант с жаром уверял Стази, что, ежели что, по реке Луге пустят неслыханной силы ток, и никакой немец в жизни ее не форсирует. Но лейтенант был известный враль и балабол.
Впрочем, дальше немец вполне мирно назвал себя, свое майорское звание, сделал комплимент Стази и настойчиво требовал отправить его немедленно в Лугу к генералу Ландграфу.
Дальнейшее Стази старалась никогда не вспоминать, но, если воспоминанья и приходили к ней незваными гостями, то всегда представлялись в виде лесного пожара, от которого нет и не может быть спасенья.
На следующий день, если его можно было назвать днем в черноте и вони разрывов, она лежала под мостом у какой-то деревни, в которой не осталось даже домов, а рядом с ней, прикрывая ей рукой затылок, лежал смуглый даже сквозь гарь курсант какого-то военного училища из города. «Не из Ленинграда, казак, наверное, с Дона», – почему-то подумала Стази.
– Спокойно, спокойненько, – уже в сотый раз шептал он под вой и визг. – Все будет в ажуре.
Стази почти механически поправила, пытаясь не набрать в рот песка:
– Не надо употреблять слов, если не знаешь их значения. Ажур – это только способ ведения бухгалтерии.
– Оп-ля! А ты еще и умница! – И он еще сильнее вдавил Стазино лицо в песок. – Ничего, с такой умницей да не прорваться?! Брешешь! Прорвемся, сейчас они выдохнутся, и рванем вплавь. Ты плавать умеешь?
Но Стази понимала, что это только слова, что этому парню, такому красивому, молодому и сильному, тоже не хочется умирать, как и ей, и он пытается заговорить, заколдовать неминуемую смерть. Какое вплавь, когда река простреливается как на ладони? Уж лучше умереть на земле, а не мучительно захлебываться мутной водой… И, подыгрывая ему, Стази вывернула голову из-под его руки, озорно улыбнулась, зажмурилась.
– Поцелуй меня, казачок!
Этот вечный поцелуй среди ада навсегда обжег ее, потому что не прошло и секунды, как горячий рот вобрал в себя ее всю, тугое тело дернулось, и уже мертвые зубы в последней судороге прикусили ей нижнюю губу. И тогда Стази поняла, что чувствуемый ей ужас еще только начал приобретать свои зловещие формы. Потом загрохотало уже так, что мир потерял привычные очертания, и горячие струйки потекли Стази на грудь, тяжеля гимнастерку на груди. А потом стало совсем тихо.
Стази звериным чутьем знала, что надо лежать не шевелясь, что так немцы, может быть, пройдут мимо, если вообще пойдут под мост. Чего им здесь делать ради двоих мертвецов? Лицо ее стянуло чужой запекшейся кровью, и, когда приоткрыла один глаз, то с трудом увидела раскаленное безжалостное солнце в прозрачной вуали гари. «Никуда больше не пойду, ничего не хочу, ни родины, ни счастья, – равнодушно подумала вдруг она. – И никому я не нужна… как и мне никто. Бедный мальчик, – тяжело, как сквозь вату, подумала она о том, кто лежал на ней, безжизненный и, наверное, теперь святой. – Я так и не узнала, как его зовут. Жаль его, и Ленинград жаль… Только себя не жаль. Хоть бы умереть скорей, скорей…»
На секунду усмехнулось ей веселое и сердитое лицо брата, но оно говорило о жизни, а она хотела теперь только смерти. И решительным движением Стази высвободилась из-под мертвого курсанта и легла рядом, как с живым, обняв за плечи и прижавшись щекой к смуглому даже в смерти лицу…
Когда-то маленькая Стася искренне считала, что весь мир состоит из палевых абажуров, звенящего серебра под ними, толстых книг в кожаных переплетах и детей, умеющих говорить по-немецки. Разумеется, в новгородской деревне все было по-другому, но на то она и была новгородской деревней. Мир существовал правильно и гармонично. Чуть подрастя, Стася, конечно, не могла не замечать, что, помимо мальчиков в бархатных штанишках и с такими же бантами, умеющих шаркнуть ножкой, и девочек в капорах и каракулевых шубках, крытых каким-нибудь малиновым или синим бархатом, существуют и другие дети. Ей встречались на улицах мальчики в сапогах и девочки в платочках, но они тоже проходили мимо мало живыми тенями. В песочницах Матвеевского сада, куда приводила ее Настя, последняя бдительно следила, чтобы Стася не копалась в песке с подобными детьми, и чуть что даже не стеснялась применить силу и вытащить ее прочь. И даже школа, куда ее после долгих споров отправили родители на год раньше положенного срока, сначала изменила немногое. Правда, слушая из-за плохо затворенной двери споры родителей, Стася удивлялась: мягкая мама весьма жестко настаивала на том, что в школу ее надо отдать как можно позднее, когда будет уже невозможно переломить – или, как насмешливо произносила мама, «перековать» – сознание, а папа, наоборот, твердил, что, чем раньше, тем лучше, и что и так уж много в ней осталось дворянской дури, опасной и ненужной. Короче, споры были малопонятные и неинтересные.
В школе оказалось вполне весело. Их огромный класс в пятьдесят пять человек как-то быстро ощутил себя единым целым, и через пару месяцев они уже прорывали кордоны старшеклассников, бросаясь на несомые из столовой подносы с теплыми кусками бесплатного хлеба. Потом Стася каждый раз недоумевала, зачем она тоже бросается в эту кашу, хотя хлеба в доме было достаточно, но наутро азарт снова пересиливал разум, и она бросалась в бой, стремясь ухватить горбушку.
Школа была старинная, трехэтажная, отец говорил, что в ней даже учился какой-то поэт, но имя его Стасе ничего не говорило, а вот прелестный стеклянный эркер в классе, где проводили уроки про растения, ей очень нравился, позволяя воображать себя какой-нибудь принцессой в замке. Именно там ей и развязал рывком бант в волосах первый хулиган и двоечник класса Мишка Глотов. Удивительно, но это ей понравилось, и скоро Настя уже приводила ее в соседний дом, где в полуподвале ютилась Мишкина семья: большеглазая и всегда словно испуганная мама, двое малышей и какая-то древняя бабка. Разумеется, Настя всегда надевала на Стасю в эти походы платьице попроще да еще с холщовым передником и нарукавниками. Они играли с Мишкой в солдатики, которых у него была уйма, особенно красных конников, хотя присутствовали и молодцы в старинных мундирах, сходившие всегда за белых. Мишка был рад, что Стася всегда с удовольствием, без упрашиваний, играет на стороне врагов и, не жалея, стягивает нарукавнички, делая из них полевые лазареты. Она же в свою очередь, с удивлением обнаружив, что Мишка хорошо соображает и ко всему жадно любопытен, стала носить ему из дома книжки, сначала тайком, а потом и с одобрения мамы. Правда, потом Настя зачем-то держала их над паром, а после возмущения папы порчей книг тайком проглаживала утюгом через бумажку.