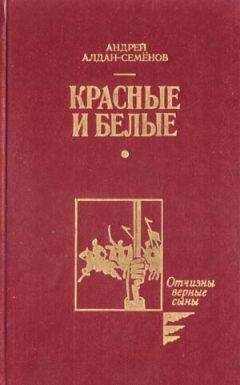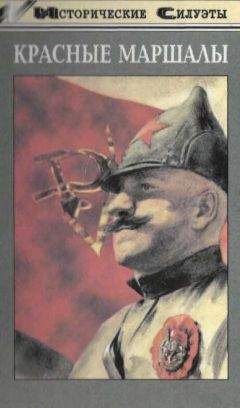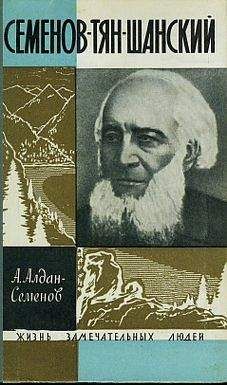Долгушин еще раз взмахнул рукой и нырнул за вагоны. Но все же он успел заметить, как адмирала Колчака поставили в двойное кольцо охраны.
И это двойное кольцо двинулось к Ангаре, за которой виден был близкий Иркутск.
Колчак шел неловкой, ныряющей походкой, длинная черная тень его ломалась на снежных сугробах.
— Вы адмирал Колчак?
— Я адмирал Колчак.
— Вы считались верховным правителем России?
— Я верховный правитель.
— Сколько вам лет, адмирал?
— Сорок семь.
— Где родились вы?
— В Петербурге. Мой отец, генерал-майор, происходил из столбового дворянства, мать тоже дворянка.
— Вы женаты?
— Жена сейчас живет в Париже.
— Здесь добровольно заарестовалась гражданка Тимирева Анна Васильевна. Какое она имеет к вам отношение?
— Хорошая знакомая.
— Гражданская жена?
— Нет, нет!
Допрос начался в день, когда Политцентр передал всю полноту власти в городе Иркутскому ревкому. Только двадцать дней властвовали эсеры, но чрезвычайная следственная комиссия, созданная ими, осталась. Ее председателем был большевик Попов, членами — эсеры Алексеевский, Лукьянчиков, социал-демократ Денека.
Колчака допрашивал главным образом Алексеевский. Адвокат по профессии, он издавал в Иркутске эсеровскую газету; колчаковская цензура прикрыла ее, и Алексеевский считал адмирала личным своим врагом.
Иркутский ревком намеренно сохранил этот разношерстный состав комиссии: Колчак не считал эсеров своими последовательными врагами и в их присутствии мог говорить более откровенно.
Допрос происходил в тюремной канцелярии. Колчак сидел у столика посреди комнаты. Справа, под окном, расположились стенографисты, слева стоял начальник караула Шурмин.
Раздраженно следил Андрей за процедурой допроса. Ему казались ненужными вопросы, устанавливающие личность Колчака, место его рождения. Все это было, по его мнению, пустой тратой времени: «Где родился? Как крестился? Ясно, что перед ними Колчак. Ну, и во двор его, и к стенке именем революции».
Алексеевский же наслаждался выпавшей ему ролью и допрашивал адмирала по всем правилам юриспруденции. Он подчеркивал свою осведомленность в тайнах политики. Вежливый, доверительный голос его заполнял промозглую тюремную канцелярию.
— Кем работали после окончания Морского корпуса? Когда стали служить в царском флоте? Какого чина достигли? За что награждены золотым оружием? Как относились к императору, к императрице, пресловутому старцу Григорию Распутину? С какими чувствами встречали войну с Германией? Ваше отношение к большевикам? К левым эсерам? Для чего изучали китайский язык?
Вопросы Алексеевского иногда ставили в тупик адмирала, но чаще они помогали выбираться из опасных, скользких, запутанных положений.
Серое утро тосковало на голых тюремных стенах. В сером свете все казалось унылым, особенно люди, сидевшие за голым столом.
— Где вы узнали об Октябрьской революции?
— В Сан-Франциско. Я садился на пароход, уходящий в Японию, осторожно ответил Колчак.
— Как вы отнеслись к перевороту?
— Не придал ему особого значения. Брестский мир я считал более страшным событием.
— Как все же реагировали на появление Советской власти?
— По прибытии в Японию заявил: правительство, заключившее мир с немцами, я не признаю.
— И это все?
— Нет, почему же! Я еще сказал, что вместе с союзниками буду драться против Германии.
— И против большевиков? — спросил председательствующий Попов.
— Большевики и Германия для меня синонимы, — мрачно обронил Колчак.
— Вы монархист, адмирал?
— Я служу отечеству… одно это слово возвышает душу.
— Прекрасное слово «отечество», но все же отвечайте на мой вопрос.
— Монархия не единственная форма правления, которую я признаю. Когда она пала, я счел себя свободным от всех обязательств перед ней.
— Это стало вашей потребностью — изменять своим обязательствам? заметил председательствующий. — Освободились от присяги императору, изменили Временному правительству, перешли потом на службу к английскому королю…
Алексеевский опять перехватил нить допроса:
— Вы, адмирал, продали английскому королю свою шпагу…
— Пусть так.
— Свои военные знания продали вы.
— Да! Да!
— Вы поступили как кондотьер…
Колчак сумрачно, исподлобья посмотрел на Алексеевского. «Неужели они перехватили мои письма? Теперь будут бить меня моими же словами».
— А ведь это символично. Прежде чем стать верховным правителем, вам пришлось стать кондотьером, — продолжал Алексеевский.
— Символы, символы, — обозлился Колчак. — Мы бережем утратившие всякое значение символы, но не бережем людскую кровь. — Он замолчал, понимая, что говорит совершенно не то, что нужно.
— Вот-вот-вот! — сразу же подхватил его слова Попов. — Не бережем кровь — в этом-то все дело! Сотни тысяч загубленных жизней на вашей совести, адмирал. Итак, вы поступили на службу к английскому королю. Как это произошло?
— Я получил из Лондона телеграмму. Мне предлагалось выехать в Пекин для встречи с бывшим царским послом.
— Вы встретились с ним?
— Посол передал мне инструкции английского правительства.
— Что это за инструкции?
— Мне предлагалось немедленно собирать силы для борьбы с большевиками. И я поехал во Владивосток.
— Когда у вас зародилась мысль о личной диктатуре?
Вопрос Попова показался Колчаку подозрительным, он отхлебнул холодного чая, собираясь с мыслями.
— Я стал диктатором по воле офицеров белой гвардии. Они избрали меня верховным правителем.
— История не знает личной диктатуры, которая покоилась бы на избрании, — немедленно возразил Алексеевский. — Где вы узнали о правительстве, именуемом омской Директорией?
— В Пекине. Я тогда же сказал: Директория — второе издание Временного правительства, она приведет в Сибирь большевиков.
— И все же вы стали ее военным министром! Для того, чтобы свергнуть ее?
— Во время войны страной должны управлять военные. Как они станут управлять — неважно, лишь бы одержали победу, — ответил Колчак.
Он говорил, слушал адвоката и поглядывал на стенографиста — тот вел свои записи на зеленоватых рекламах: «Покупайте цейлонский чай братьев Похабовых!»
— В своем манифесте вы писали, что не пойдете ни по пути партийности, ни по пути реакции. Но своим-то знаменем вы взяли самую мраконосительную реакцию, — продолжал Алексеевский.
«Этот адвокат ставит мне ловушки, словно я больше всего причинил вреда ему лично, — подумал Колчак. — Нет у них моих писем, а то бы они их уже цитировали».
Председательствующий объявил перерыв. Колчака отвели в тюремную камеру. «Спасения ждать невозможно. Стоит ли хвататься за соломинку, не лучше ли достойно уйти на тот свет?» Колчак вынул из матраца прибереженную для крайнего случая капсулу с ядом.
Заскрежетала дверь. Колчак швырнул капсулу под койку, но Шурмин уже заметил ее.
— Яд? — спросил он коротко.
— Яд! — так же коротко ответил Колчак.
Шурмин обыскал камеру и пошел к председателю губчека Чудновскому.
— Вот яд, отобранный у Колчака, — Андрей протянул капсулу.
— Стрихнин, — уточнил Чудновский. — Безотказный яд. Волков им травят. Почему Колчак не воспользовался им?
— Не успел.
— Не захотел. Значит, на что-то еще он надеется.
— Я бы расстрелял его немедленно.
— Остерегайся, юноша, психоза мстительности. Колчак, между прочим, живой нам нужнее.
Шурмин выслушал председателя губчека, не возражая, но и не соглашаясь с ним. Чудновский нравился ему уже тем, что напоминал чем-то Игнатия Парфеновича — такой же коренастый, волосатый и так же сильно сутулился. У Чудновского были, как и у Лутошкина, палящие, выразительные глаза, острый ум, независимость в суждениях. Может быть, ему не хватало сердечности, которую излучал Игнатий Парфенович.
— Придет время — и все, что мы совершили, станет достоянием истории. История потребует от нас правды о революции, о гражданской войне, назидательно сказал Чудновский. — Ведь история смотрит на события не во временной, а в бесконечной перспективе. Вот почему следственная комиссия должна установить причины, вызвавшие колчаковщину, нарисовать портрет ее вдохновителя. — Он помолчал, подыскивая слова для выражения волнующей его мысли. — Всесторонний портрет палача революции, — изменил он формулировку. — Недавно в губчека явился человек, который профессиональным палачом был — вешал большевиков в иркутской тюрьме. Он пришел предложить свои услуги, будучи совершенно уверен в том, что ни одна власть не может обойтись без палача. Его надо было сразу повесить, но пока жив Колчак, пусть поживет и палач. Мы сведем Колчака с пьедестала верховной власти и поставим его рядом с заурядным вешателем.