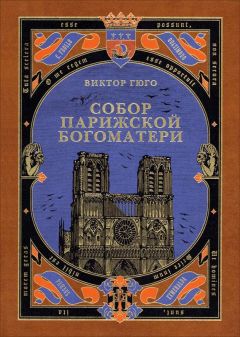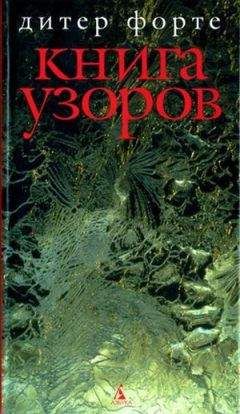— Всё равно подпишешь! — донеслось до него откуда-то издалека.
— Нет… — хотел крикнуть Илья, но вместо этого язык выплюнул два болтавшихся во рту зуба.
С невероятными усилиями он поднялся и, пошатываясь, прислонился к стене. Страшно глядели с изуродованного лица расширенные, обезумевшие глаза. Следователь спокойно нажал с боку стола кнопку электрического звонка.
Илья сделал несколько неверных шагов с намерением дотащиться до лежавшего на бумагах браунинга, но ноги подломились и он повалился, теряя сознание…
Через полгода следствие было закончено и «Особое совещание» при закрытых дверях приговорило Кремнева к пяти годам заключения в отдаленных «Исправительно-трудовых лагерях НКВД».
Перед этапом Маше удалось добиться разрешения на свидание с Ильей, но он отказался от свиданья. Он понимал, что всё кончено, жизнь сломана, и это свидание, кроме лишних мук, ничего не даст ни ему, ни Маше.
Узнав о том, что Илья отказался ее увидеть, Маша еле дошла до дома. Не раздеваясь, она повалилась на диван. Он не захотел проститься с ней! Почему? Что она сделала ему плохого?
Глеб взволнованно ходил по комнате из угла в угол.
— Нет, Мария, в этом я как раз узнаю Илью. Он до конца остался Ильей Кремневым… Будет, Маша не плачь. И — забудь. Илья умер, а вместе с ним умер и замечательный художник, который мог бы сделать многое и многое…
Долго еще Маша вздрагивала при каждом звонке и стремглав бежала к дверям, ожидая какой-нибудь весточки от Ильи. Но шли дни за днями, месяцы за месяцами, год за годом — Илья как в воду канул. Потом пошли слухи о том, что он, якобы, бежал из лагеря и был застрелен в тайге охраной.
Маша часто ходила в толстовскую беседку и часами сидела в ней. Потом уехала в Ленинград, увлеклась фресковой живописью и целиком отдалась работе.
Небольшой пассажирский пароход, лениво шлепая плицами по воде, тащился вверх по течению. Белые кожуха его окрашивались в розовый цвет падающим где-то за Волгой солнцем. Кудрявые берега опрокинулись в голубоватую воду безмятежно и спокойно… Слышно было, как на берегу звонко кричала деревенская детвора и особенно выделялся голос плачущей девочки:
— Ой, мама… Я больше не буду… Ой, мама… Не буду больше.
На корме парохода вповалку лежали на грязной палубе третьеклассники. Молодой парень, усевшись на свернутый в бухту канат, наигрывал на гармонии и тянул хорошим мальчишеским голосом:
… Я-а найду себе-е другую
Молоду-у же-ену-у…
Пахло смолой, дымом, сельдями и речной вечерней свежестью.
… В чи-истом поле на-а просторе-е
Гибкую-у сосну-у…
Шагах в десяти от гармониста, прислонившись спиной к чугунному кнехту, сидел Илья Кремнев. Лицо его, с изуродованным, вдавленным носом, заросшее густой белокурой бородой почти до самых глаз, маленьких и бесцветных, было как-то странно неподвижно, точно это было не лицо человека, а маска, надетая неловко и нелепо. Он был очень грязен и оборван. Легкий пиджак, накинутый на плечи, открывал на груди полосатую матросскую фланельку, засаленную и порванную в нескольких местах. На брезентовых брюках чернели пятна нефти. Глядя куда-то за борт, он неторопливо и гнусаво рассказывал свою историю маленькому, чернявому человечку, в ватном бушлате и кордовых ботинках, развалившемуся на палубе возле его ног. Он внимательно слушал Илью, зажав в руке бутылку с водкой.
— Вот, Матвей… а потом… потом меня посадили в тюрьму… Давно уже это было, семь лет тому назад…
Матвей перевернулся на бок и налил в стакан водки. Недоверчиво спросил:
— Так ты, Илья… того… художник?
— Был, Матвей… а сейчас не знаю… с тех пор не рисовал.
— Ив Москве, говоришь, жил?
— Жил.
— Чудно… Как это человек так может?… Ну, мне уж батькой на роду написано зимогором быть… а ты вроде как с понятием… Только, врешь ты, по-моему, что художником был… не похоже что-то. Накось, выпей, друг-художник.
— Нет, не вру…
— Врешь, Илья, врешь. Ну, чорт с тобой, ври. Ты хорошо, здорово врешь…
На глазах Ильи навернулись пьяные слезы обиды.
— Матвей, честное слово, не вру… Ей-Богу, чего мне врать?…
— Ну, ладно, ладно… А бабу эту, как ее звали?
— Не баба, а девушка. Маша. Матвей рассмеялся.
— Вот и на ней тебе не повезло. Запомни, Илья: все Иваны дураки, все Машки — проститутки…
— Не говори так, Матвей… Моя хорошая была… Ты не смеешь так о ней говорить.
— Голос у тебя, брат, противный… Не верится что-то в любовь вашу…
— А нос-то мне потом сломали… в тюрьме, оттого и голос такой. А когда мы с ней… так я еще здоровый был…
— А не побили тебе морду-то где-нибудь по пьяной лавочке? Говоришь только, что в тюрьме, а небось напился, да и того… Чего не пьешь?
— Сейчас выпью.
… мать узнала, все-о пропало…
де-евку за-аперла-а-а…
пел парень, лениво растягивая меха гармонии.
— Ну, а в тюрьму-то за что сел? — неторопливо осведомился Матвей, — стащил чего темной ночкой?
— Нет. За картину.
— Как это — за картину? За картину не сажают. Вот я, например, четыре раза сидел и всё за дело. Один раз щуку в Нижнем на базаре утащил у бабы. Здоровенная была щука! На пуд…
— Таких не бывает… — озлился Илья.
— Клянусь — на пуд! а то и больше. Два года отсидел. Другой раз тещу полоснул ножом по руке… Четыре года дали, да убег через пять месяцев… Без дела, брат, срока не дадут… Как это — за картину?
— А вот так. Написал я ее плохо.
— А ты б хорошо писал…
— Хотел хорошо, а вышла плохо… Ты когда-нибудь о социалистическом реализме слышал?
— Чегой-то? — не понял Матвей, поперхнувшись воблой.
— Слышал?
— Как ты сказал? Соц… соцический…
— Вот и не знаешь… Только, Матвей, нет его вовсе. Фальшь всё это. Чушь. Никакого социалистического реализма нет. На деле нет его…
— Бормочешь что-то непонятное. Аль захмелел уж? — покачав шевелюрой, спросил Матвей.
Илья молчал, опустив голову и покручивая в руках стакан.
На верхней палубе женский голос громко позвал:
— Папа, иди-ка сюда.
Илья, вздрогнув, поднял голову.
Облокотившись на поручни, стояла Маша и смотрела на заход солнца. К ней подошел Николай Петрович, седой и сгорбленный. Маша была в стареньком летнем пальто и серой до колен юбке. Она сильно изменилась, похудела. На бледном лице отчетливо выступали веснушки, но по-прежнему взгляд ее был светел и чист.
Он, не отрываясь, вглядывался в знакомые черты. Острая боль в сердце заставила его на секунду закрыть глаза. Вот она, его жизнь, его Маша! Зачем судьба так жестоко его бьет! Зачем эта страшная встреча?
— Краски-то, краски-то какие, папа. Ты только посмотри. Знаешь, я вспоминаю такое небо на одном из этюдов Ильи. Помнишь, над его диваном висел…
—- Колоритные фигуры, не правда ли, Мария Николаевна? — спросил, подойдя к ним, какой-то молодой человек в шляпе и с тростью.
На одно мгновенье Маша поймала взгляд Ильи, но в ту же секунду он опустил голову, не смея ее снова поднять.
— Боже, какие страшные глаза… — сморщившись, сказала Маша. — Пойдем, папа, в каюту. Холодно становится.
Они все отошли от борта. Маша еще раз обернулась и взглянула на «зимогора», но Илья сидел всё в том же положении и не поднимал головы.
Они ушли.
… Солнце совсем скрылось где-то за зубчатым лесом. В сумерках плавно носились над пароходом чайки.
Илья смахнул одинокую слезу.
— Чегой-то ты? — осведомился Матвей. Илья молчал.
— Эхе-хе-хе… — заворочался Матвей, готовясь ко сну. — Кто вас, пьяных чертей, разберет… Ложись- ка, Илья, дрыхнуть. Может Машка тебе приснится… Кончай ты пиликать. Надоел! — крикнул он парню- гармонисту. — Всю душу вытянул своей музыкой. А то вот тресну бутылкой по башке — сразу отобьет охоту играть… Ложись, Илья. Свежеет-то как… Бр… И укрыться нечем. Ты — ко мне под бок, Илья… Оно, знаешь, теплее будет…
Ночью Илья достал из кармана пиджака Матвея карандаш и на обрывке газеты стал царапать в темноте, наощупь. «… Маша, прости…» Бросил карандаш в воду, разорвал написанное и бросил вслед за карандашом.
Долго сидел неподвижно на борту, глядя на черную, убегавшую назад воду и на светлые огоньки бакенов.
— Пора. Хватит… — вслух сказал он.
Схватил обрывок тяжелой якорной цепи и лихорадочно стал обматывать ею ноги. В тишине железо позвякивало, точно лопаты могильщиков о камни.
Свесив замотанные ноги за борт, он вдруг вспомнил удивленный профиль Горечки там… на полу. И ему показалось, что из воды кто-то призывно махнул рукой.
— Иду, Горе, иду, милый…