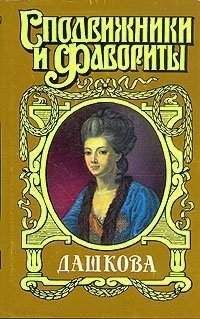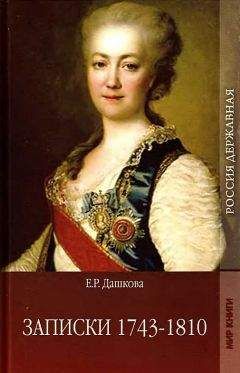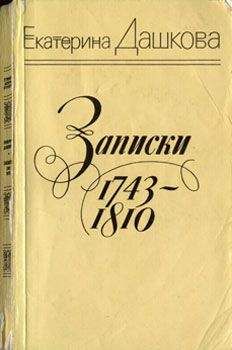— Да уж душеньку свою подлую холуйскую потешили. Новому императору угодить торопились.
— Какому императору — Долгоруковым! У тех руки судорогой свело — скорей бы себе прибрать, не упустить бы. Обычное дело, кумушка-матушка. Так повелось: каждый своего часу дожидается, как рыбак с удой. Клюнет, не клюнет, жизнь целую на часах, минута все решить может.
— А двадцать пятого февраля семьсот двадцать восьмого Долгоруковы положили коронации быть.
— И то сказать, не держал племянничек зла на Меншикова. На последний свой Новый год сам захотел деток меншиковских из злой ссылки ослобонить. Видать, добром помнил.
— Каких деток, Маврушка? Александра Данилыча в ноябре семьсот двадцать девятого не стало. Марьюшка-то всего месяцем отца пережила. Да и послал бы ему Бог веку, все едино не зажилась бы: больно по жениху своему первому, Сапеге, убивалась. Подумать только, шесть лет после обручения свадьбы ждали. Хороши бы под венцом были, ой хороши.
— Ничего не скажу, хороша была Марья, да только кого хвалить рядом с тобой можно. Одна ты у нас разъединственная, чисто солнышко красное светишь. Уж на что кругом старые грибы, а и то глаз от тебя отвести не могут. А по любовным делам, убей Бог, потери для Марьи Александровны не вижу. Сапега, конечно, Сапегой, вон их сколько, красавцев писаных, при дворе судьбы своей дожидается, а корона российская куда завиднее. Сравнения нет.
— Опять за свое, Мавра Егоровна. Говорила же…
— Не за свое, матушка цесаревна, за твое. О тебе пекусь, за тебя, голубушка, сердце кровью обливается. Да молчу уж, молчу.
…Надо же, покойный герцог привиделся. Под утро в опочивальню будто вошел. Огляделся да в постелю. Как есть, в ботфортах. Хлыст грязный на подушки кинул. По покрывалам следы. Огромные. Черные. Храп на весь дворец. За сердце взяло. Глаза приоткрыла — слава те, Господи, одна. А полог колыхается. Чуть-чуть. Вроде кто трогал. Вроде прошел. За окном то ли туман, то ли утро раннее. Спросонок не разберешь. Страшно. Отче наш, иже еси на небесах… Не поможет. Давно помогать перестало, тверди молитву, не тверди. Спину ломит. Ввечеру завалишься, за ночь не шелохнешься — боль бы не приступила. Кому пожалиться? Лейб-медикам веры нет. Почем знать, кому служат, с кем в сговор вошли. Коли хворь тяжкая, нипочем не помогут. С наследничками сговорятся. Вон около Лизаветы Лесток крутится. Будто и дохтур отменный, еще государыня тетенька сказывала, а глаза в глаза нипочем глядеть не будет. Ужом вьется. У такого возьми зелья, тотчас на том свете очутишься. Терпеть надо, покуда терпится. Изо всех сил терпеть. Анна Федоровна и та приглядываться стала. Говорить не говорит, а губы прикусывает: робу пораспустить надо, ваше величество, поправиться изволили. Поправиться! Скажи, пухнуть начала. Под глазами мешки до подбородка висят. Глаза будто в ямы провалились. Лучше в зеркало не глядеть.
Да что себя обманывать. Иоганн Эрнестович что ни день разговоры заводит. Пора бы, мол, принцессу с принцем Антоном повенчать. Венский двор, мол, недовольство выказывать начинает. Венский двор! За царевича Алексея Петровича, родственника своего прямого, не вступились, а тут за побродяжку Брауншвейгского забота одолела? Об ином герцог думает, чует сердце, об ином. Преставится царица, туда ей и дорога, лишь бы самому у трона остаться, власти не лишиться. Ну как не по духовной Анны Иоанновны выйдет? Куда ему тогда с Бенигной-уродиной да коробом деток путь держать, откуда деньги лопатой грести? Не соглашаться бы на духовную, все равно не соглашаться, да неужто Лизавете треклятой дорогу к престолу отворить? Неужто ей, отродью Петрову, все отдать?
Вон Иоганн Эрнестович, голубчик, как себя обезопасить надумал: цесаревну с братцем своим родным обвенчать. Царицы не станет — цесаревну на трон, а с ней всех Биронов скопом. При мне герцог не добьется, после меня своего достигнет. Сердце-то у него каменное — жалости отродясь не знавало. Вот и выходит, все лучше племянница. Все недругам радости меньше, а Лизавете меньше всех.
— Свершилось, ваше высочество.
— Ты о чем, Михайла Ларионыч?
— Императрица изволила назначить день бракосочетания наследницы. Второго июля обручение, третьего венчание. В Казанском соборе.
— Да что за спех такой? Сколько лет принц Антон в Санкт-Петербурге на чужих хлебах проедается. Зачем приехал, все уж позабыть успели. Ты-то что думаешь?
— Бирон, надо полагать, настоял, ваше высочество. Больно часто у императрицы припадки случаться стали — не иначе обеспокоился. Уверенность ему нужна, что правительницу к рукам крепко приберет.
— И по-твоему, Анна Иоанновна так и согласилась? Сама себе приговор смертный подписать решилась?
— Как сказать, ваше высочество, скорее оттяжку. Покуда Анна Леопольдовна понесет, покуда сына родит, да и родит ли, Бирон ее в покое не оставит.
— А побыстрее, значит, чтоб душу себе не рвать, племяннице ненавистной праздников не устраивать. Понятно, все понятно.
…Снова свадьба. Чужая. Горькая. Откуда силы взялись сдержаться. Себя не выдать. Да нет, выдала. Принцессу поздравлять стала, слезы рекой хлынули. Не сдержать. Ровно дверь в тронную залу перед тобой закрывалась. Сейчас стояла настежь, к тронному креслу ковер пунцовый, ничьей ногой не топтанный. И нет ничего! Как не бывало…
Уж на что Анна свет Иоанновна принцессы терпеть не может, а тут для всеобщего обозрения расстаралась. На молодых платья из серебряной парчи одинаковой. У невесты весь корсаж спереди бриллиантами залит — глазам больно. Волосы в четыре косы бриллиантовыми нитками перевиты да бриллиантами и осыпаны — куафёр себя превзошел. Анна, маленькая, худющая, из себя невидная, от такого блеска чуть не красавицей заделалась. А то, что говорит мало, слова подбирает, на вопрос толком ответить не умеет, ото всего в смятение приходит, оно и к лучшему вышло — таково-то все важно да по-царски.
Антона-Ульриха жалко. Беленький такой. Худенький. Заика. Разволнуется — слова не выговорит. А ничего, храбрый. Сказывали, будто в двух кампаниях под Минихом воевал, не трусил. Анны не любит. И то, чем только она ему не досаждала. Все наперекор. Все по-грубиянски. Откуда прыть бралась. Тетка прикрикнет — уймется. А там, часу не пройдет, снова за свое. Маврушка вызнала, что перед сговором тетке в ноги кинулась. Как последняя холопка, башмаки целовала. За подолом на коленях ползла. Чтоб за Антона не выдавали. Чтоб только не за принца. Ему в тот же час донесли. А какой у него выбор — из Санкт-Петербурга на родину ворочаться? Ни владений, ни почета. Здесь все готов сносить. Под венцом стоял, на нареченную не глянул. В пол утупился. «Да» свое еле выдавил. Принцесса и вовсе не отозвалась, слезы глотала.
Весь дворец ночью не спал. Глядели, как после стола не пошла в опочивальню. В сад направилась. До зари одна по аллеям гуляла. Из сочинений разных монологи вслух проговаривала. Ей, акромя книг про несчастную любовь, ничто не в радость. Вот и тут душу отводила. Линара-графа, ненаглядного своего, поди, вспоминала. Да что, вспоминай, не вспоминай — ничего не воротишь. Все едино: вторую ночь в опочивальне провела. С Антоном-Ульрихом. Куда денешься!
А вот через девять месяцев сынка принесет, тогда цесаревне деваться куда? Какого чуда ждать? Выходит, прав Михайла Ларионыч, с полками гвардейскими узелки завязывать надо. Осторожненько. И Мавре Егоровне про то знать ни к чему, а Воронцовы без слов поймут. Лишних персон здесь не нужно. И чтоб Алексей Григорьич не догадался. Помощи от него не жди, а страху не оберешься. Самой обходиться надо. Хочешь успеха, только самой…
— Неужто правда, Маврушка?
— Правда, кумушка-матушка, такая правда, что и толковать не о чем. Родила принцесса сыночка. Как по заказу. День в день. Вот горе-то, Господи, вот несчастье-то. Нет их роду проклятому перевода. Плодятся и множатся. Подождать, так еще нанесет Анна свет Леопольдовна.
— Постой, Мавра, уймись! Родила, значит, все-таки.
— Родила и с супругом ненавистным, кажись, помирилась. Дите по императрицыну приказу Иоанном нарекут. Иоанн Шестой Антонович. Императором сразу объявлять решили.
— Одно верно, у Анны с Антоном великий праздник.
— Может, и не такой великий, кумушка-матушка. Младенчика-то у них отобрали. Может, и во всем без них обойдутся.
— Как «отобрали»?
— А так. Императрица распорядилась во дворец его взять, под опеку герцогини Бенигны. Только ей, уродине, порфироносных младенцев и обихаживать. Не притравила бы ненароком. От нее, ведьмы, всего дождешься.
— Не притравит. Сама себе дороги к престолу не перекроет. А младенцу, значит, привыкать к Бирону с рождения придется — все равно герцог за него править будет.
— К кому положат, к тому и привыкнет. На то и дворец — сюда со своими законами никому не войти.