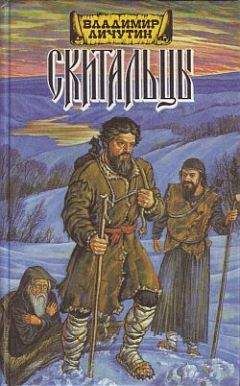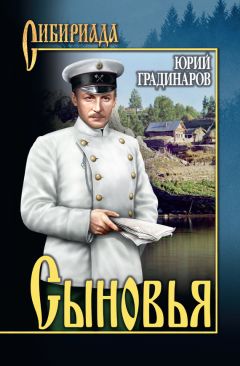– Тсс... – Паисий сделал удивленное лицо, и взгляд его застыл на приделе, где возился над вытью брат. Сторожкие звериные уши того встали торчком. – Каменев, говоришь? – возбужденно, громче обычного воскликнул монах. – Сам-от где? – Он так сказал, без тени удивления, словно на белом свете Каменевых лишь один, тот самый, что смотрителем на станции Мужи.
– Погиб, – вымолвил Донат, потупив глаза.
– Погиб? – туманно переспросил Паисий, лицо его размякло, губы отвисли. – Погиб, ах ты Боже. Святый был человече. Ах, как же его угораздило, сердешного.
Глаза у схимника, на удивление, скоро и легко набухли, зарозовели, поплыли, и старец заплакал обильными слезами, не отворотя лица. Донат еще не знал, что дано природою иному человеку плакаться за тех, у кого душа вовсе зачерствела, высохла, иссяк сердечный родник, отмывающий ум от гордыни, душу от тягостей.
Он пошел к иконостасу, уже всех забыв, и там, стоя на коленях, стеная и причитая, безжалостно бия себя в грудь, стал молиться и плакать, и ручей потек от стертых калишек с примоста, по деревянному щелястому полу, с тихим шорохом пролился на охряной камень, скрытый плахами, и там пополнил озерцо, единственное в мире озерцо слез. Если продлятся годы Паисия и жизнь его не пресечется, то озеро подтопит пещерицу, выживет из нее горюющих насельников, подточит гранитный порожек и гремучим водопадом скинется в стремительную, белую от кипящей воды Мылву.
Брат отвлекся от забот, вошел в келейку, встал на колени возле схимника, тоскливо, но осмысленно подвывая.
Симагин очнулся, и удивлению его не было предела. Но вместе с тем слезы Паисия увели от скорбных раздумий и вернули ему прежнюю уверенность и осанку.
Запоздалая весна нынче скоро отгремела, отполыхала, леса оделись листвою, река укротилась в ущелье, вошла в прежние постели, уже не так сверкала белками. Распута кончилась, открылись дороги, и в пещерицу над Мылвою вползла тревога. Паисий денно и нощно молился, прерывая свои заботы о всей Руси и страждущем народе коротким птичьим сном: брат вел свои послушания, все заботы о хлебе насущном нес на своих раменах, нимало не роптая, уже не сверлил синими глазищами Симагина и однажды даже погладил его по голове, как малое дитя; бог шил себе новую шапку, ладил козырек, он был мастеровым, Симагин, и недаром портняжил по округе и даже в Сибири, на поселении, жил безбедно. Он все мог, этот человек, но возмечтал стать богом и упорно от человеческого убегал. Ему нравилось следить, как ловко работает брат, как легко все получается у него: кипит выть на огнище, вялится мясо, печется хлеб. И не раз у Симагина являлась новая мысль, когда он размышлял о будущем Руси. Хорошо бы, полагал он, чтобы весь народец стал таким – немногословным, безропотным, рукодельным и лишенным страстей. И тогда всем бы хорошо, верно? Никаких особых трудов к их обустройству, никаких сложностей и затей в устроении жизни от рождения до смерти. Такие люди даже ходить будут по-особенному, словно бы не отягощенные плотью, никого не задевая и не беспокоя своим присутствием.
Симагин сшил себе новый куколь, иного вида, похожий на монашеский, из лисьего пламенного меха, напоминающий купол часовенки, и когда поставил его пред собою на пол, то решил вдруг, что неплохо бы сверху увенчать божеский убор серебряным крестом. Но ведь крест – это страдание, это напоминание о Христе, главном соблазнителе человечества, разрушителе природного лада, – и мысль эту отбросил. В углу придела, перед входом, лежала груда каменьев, неведомо откуда взявшихся, цветных, радостно сверкающих, когда заглядывало солнце. Симагин выискал оттуда рубин, величиною с куриное яйцо, и вшил его в шапку. Теперь возник не купол, но маленькая часовенка – знак иной веры, которую принес с собою на землю Симагин. Только прежнюю надпись: «Я бог всея земли» он остерегся сделать, оправдав свою опаску тем, что нет подобающих красок. Сам рубин, вшитый в скуфейку, указывал на верховность его обладателя.
Брат тоже приглядывался к шапке Симагина, несколько раз подползал от кострища и, стоя на коленях, обнюхивал ее.
– Ну ты, брысь, пес вонючий! – огрызался Симагин без ненависти в голосе, но весь напрягался нутром и воли рукам не давал. Даже голос нынче стал заискивающий, без прежнего металла, ибо блаженный мог по тону голоса уловить угрозу себе. «Чего с блаженного взять?» – успокаивал себя Симагин и льстиво улыбался, заглядывал брату в глаза. Тот ловил ласковость взгляда и успокоенно отползал в свой угол.
Донат же целыми днями отлеживался на шкурах, возвращался в прежнюю силу, готовился к пути. Из всех обитающих в келье только он был воистину затравленным и гонимым, и душа его постоянно бодрствовала. Даже в ночи, когда накоротко забывался схимник, Донат лежал с открытыми глазами, слушал пещерицу и видел себя помещенным в черное земное чрево, как в материнскую утробу. Земля дышала не бесплотно, но с тягостью и хрустом, населенная множеством невидных беспокойных жизней, хотящих движения. Все уходящее от солнца безмолвно оседало в толщах, а передохнув там, начинало роптать, советоваться, объединяться в воинство и натужно лезло обратно к свету. И только он, Донат Богошков, был замурован, как муравьиное яйцо.
Подле, тяжело привалившись спиною, заняв собою всю постелю, маетно спал брат. Он и во сне дозорил гостей, не сымал грузной руки с груди Симагина, ожидал от подвоха. Стоило кому-то шевельнуться, как брат тут же вздымал голову и трезво просматривал братию. Жалостно светила лампадка, отец Паисий, по обыкновению, отдыхал в своей домовине из кедровых плах. Гроб стоял на возвышении, лицо монаха виделось деревянным, успокоенным, острым. Серебряная борода выпрастана поверх черной мантии с вышитым на ней черепом. Десятый год спал схимник Паисий во гробу, а смерть отодвигалась от него.
Не шевелясь, Донат начинал молиться, чтобы вернуть сон, и черный камень взмывал над головою, размыкались оковы, сразу приступал свежий, просторный воздух. Потому, наверное, дозорщик просыпался, нервно хватал всех лапой, считал, а проваливаясь в забытье, стонал.
Донат спросил у Паисия о пещерном брате:
– Откуль он? С каких мест?
– А кто знает. Пристал в пути и братом назвался, – уклончиво ответил Паисий.
Выше по Мылве, в полуверсте от келий, тянулся затяжной перекат. Чуть зазевался – опружит посудину, затянет в каменья, и поминай как звали. В той теснине вода ярится, таким зверем живет, что человечьего голоса не слыхать. Робкой душе не плаванье; да и то сказать, робкую душу черти в домашней бане в муку затолкнут. Но как одолеют пороги, вздохнут облегченно, и кто-то, не спросясь, заведет тогда песнь, вскинет в поднебесье пронзительный голос, и крик счастливого певца готовно отразится от камня и охотно пойдет гулять по ущелью, разбиваясь в осколки. Как начал дробиться голос и песня запелась желанно, значит, скоро Паисиево особное житье, скрытня, известная рыбарям и плотогонам, вахтерам хлебных магазинов и ясачному народишку. Здесь река кротеет, набирается алого свету, как по крови плывешь, и каждый палый лист, отраженный в воде, наполнен того особого покоя, будто вместе с человеком отплывает в небытие. Но задери голову, а там, в середине скалы, нора, вроде ласточка выточила, возле завис деревянный мосток, а на нем человечишко корячится, ладит бадью. Услыхал брат песню, этот радостный зов, и норовит принять подношение.
Прямо под пещерицей, в подножье по урезу реки, лежит каменистая бурая косица сажени в три длиною, куда и пристает речная посуда. Тут рыбаки осаживают живник шестами, кланяются поясно, кричат вверх, задравши бороды: «Благос-ло-ви-и, стар-че-е!»
И Сам выйдет на зов, покажется народу, в серебряном венце волос, смутно видимый снизу, словно вознесенный, весь обвеянный светом, и немощно вроде бы, не так различимо самому тугому уху отпустит благословенные слова: «Плывите, детушки, с миром. Бог да не оставит в пути!» Брат спустит бадейку, скоро нагрузят отборною живой рыбой и поплывут дальше, радые удаче, светлому дню и отшельнику, что живет в горе, заступнику и миротворцу, помышляющему и страдающему за всех.
Однажды же, тусклым майским днем, впервые за весну послышалась песнь; она сплывала вниз по теснине и замерла внизу. Брат вышел на мосток: на реке покачивался большой живник, полный рыбы. Мужики упирались шестами, удерживали лодку у каменистой косы; один, сложив ладони ко рту, кричал:
– Тамотки беглеца ищут. У вас бегле-е-е-е-ц?
Брат лишь замычал, неторопливо раскручивал вороток, какими в Поморье достают из моря карбас на крутик, опасаясь прилива. Ворот поскрипывал, на конце замохнатевшей верви болталась бадейка, зависнув в пространстве. Снизу подхватили ее в четыре руки, скоро налили черпальницей живой воды, сверху в белой холстинке положили каравашек хлеба.
– Беглых не держим! – отозвался сверху Паисий, благословляя путников.