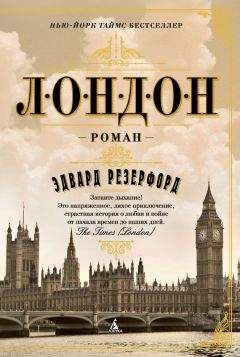– Ричард Коули заболел, – доложил один.
– У Томаса Поупа сел голос, – печально сообщил Флеминг.
Что же касалось Уильяма Слая, о нем ничего не было слышно со вчерашнего дня. Он просто исчез.
– А продублировать никак? – взмолился Эдмунд, лихорадочно соображая, как это сделать.
Поизучав сценарий несколько минут, он ухитрился парой мелких изъятий прикрыть Поупа и Коули, но без Слая было не обойтись.
– Не выйдет, – заключил он. – Это невозможно.
Эдмунд потерянно оглядел собравшихся. Его пьеса – все, ради чего он трудился, – погибла волею случая в последнюю минуту. Публике придется вернуть деньги. Это не укладывалось у него в голове. Актеры озирались в молчаливом смятении, пока вдруг не подал голос братишка Джейн:
– Может, вы сами сыграете?
Все с любопытством взглянули на Эдмунда.
– Я? – Он тупо уставился на них. – На сцену?
Он был джентльмен, а не актер.
– Похоже, лучше и не придумаешь, – согласился Флеминг.
Его продолжали рассматривать.
– Но я никогда не играл, – растерянно возразил Эдмунд.
– Вы знаете пьесу, – напомнил мальчонка. – Да больше-то все равно никого нет!
И после долгой, мучительной паузы Эдмунд осознал его правоту.
– О боже, – выдохнул он.
– Я пошла за костюмом, – сказала Джейн.
Его как будто окатило волной, застав врасплох, когда он вышел на сцену. При свете дня, проникавшем через большое отверстие в крыше, он видел всех: восемьсот пар глаз, глядевших из партера у него под ногами и с галерей по обе стороны. Если дойти до края сцены, с галереи можно бы и дотянуться до него. Все смотрели выжидающе.
И это не могло затянуться. Актерам елизаветинских времен приходилось ежеминутно бороться за внимание публики. Если народ заскучает, то не просто заерзает на сиденьях в партере, а многие на галерке вообще стояли. Начнется болтовня. Раздосадуешь их – примутся свистеть. Приведешь в раздражение – и в тебя градом полетят орехи, яблочные огрызки, груши, сырные корки и все, что окажется под рукой. Неудивительно, что к зрителям часто взывали в прологах, именуя их «благородная публика».
Но Эдмунд не боялся. В левой руке у него была накрученная на палочку шпаргалка, которую украдкой сунул ему Флеминг перед выходом на сцену. Актеры часто запасались такими штуками, играя новую пьесу, и все это было малозаметно для публики, но жест показался Эдмунду нелепым. Едва ли он забудет строки, которые сам же и написал. В ожидании своей реплики он оглядел зал. Увидел Роуза и Стерна, удивленных его выходом. Потом придется подыскать какое-то приличное объяснение. Эдмунд взглянул на актера, игравшего мавра. Тот говорил сносно, и Эдмунд удовлетворенно увидел, что взоры публики – по крайней мере, пока – были прикованы к странной черной фигуре, которую он породил. Значит, идея была недурна. Но вот пришел черед говорить самому, и Эдмунд улыбнулся, шагнул вперед, сделал вдох.
И ничего не произошло. В голове было абсолютно пусто. Он глянул на мавра, прося подсказки. Той не последовало. Он побледнел, услышал Флеминга, что-то бубнившего с порога; дрожа от позора, зыркнул на текст.
«Итак, любезный, хорошо ли с госпожой?» Как он мог забыть? Проще же некуда. В публике обозначилось беспокойство – на миг, никакого свиста, лишь нечто в воздухе. Но, к счастью, оно рассеялось.
Остаток первой сцены, которая была непродолжительна, сыграли без запинки. Украдкой раскатывая в горсти шпаргалку и заглядывая для верности, Эдмунд больше не забывал текста. Действие потекло ровно.
В последнюю минуту пополз непонятный шепот. Мавр стоял посреди сцены и произносил свою первую крупную речь. От нее стыла кровь, чем он немало гордился. Но не успел он достичь кульминации, как вниманием публики завладело что-то другое. Эдмунд увидел пару рук, показывавших пальцем; люди обменивались тычками. Монолог вызвал к жизни не благоговейную тишину, но лишь новые перешептывания. Озадаченный, Эдмунд повернулся к выходу и тут увидел.
В начале спектакля ложа лордов пустовала. На балконе не было ни души. Сейчас же там в самом центре, подобно главному судии, восседала одинокая фигура. Она перегнулась через балкон, чтобы лучше видеть, и из партера чудилось, будто лицо нависало над действом подобно странному призраку сцены. Не приходилось удивляться, что зал шептался и показывал на него.
Ибо лицо это было черным лицом мавра.
– Это он, я уверена. – Джейн вернулась с галереи, куда ходила взглянуть на темнокожего незнакомца. – У него голубые глаза.
Антракты объявлялись редко. Второй акт уже начался, и Эдмунду вот-вот предстояло вновь выйти на сцену. Они с Джейн смотрели друг на друга, в мельчайших подробностях вспомнив беседу с мавром. «Смекнет ли он, что послужил прототипом?» – пронеслось в голове у Эдмунда. Еще бы!
– И как ему это нравится? – спросил он нервозно.
– Не знаю. – Джейн подумала. – Он пристально смотрит, и все.
– А мне что делать?
– Не обращай внимания, – посоветовала она.
Через минуту Эдмунд снова стоял перед публикой.
Он поймал себя на том, что ему трудно не смотреть на черное лицо, нависшее над сценой, однако сумел сосредоточиться и отыграл хорошо. Творилось первое злодеяние Черного Мавра – кража вкупе с изнасилованием. Зрители напряженно следили за действием, а актеры держались все увереннее.
Почему же ему сделалось неуютно к концу второго акта? Действия хватало с избытком. Характер и деяния Черного пирата вселяли ужас. Но ощущение все усиливалось: пьеса выдыхалась.
Начался третий акт. Когда злодеяния достигли новых высот, то же самое произошло с его слогом. Однако звучные филиппики, которые Эдмунд столь заботливо оттачивал, сейчас казались ему напыщенными и пустыми; он понял, что утомились и зрители. Публика стала приглушенно переговариваться; взглянув на галерею, Эдмунд увидел Роуза, шептавшего что-то на ухо Стерну. Ближе к концу он пустился в размышления: следующий акт должен был ознаменоваться хоть чем-то новеньким. Но, холодея от паники, понял, что актов еще целых два и они малоотличимы от уже сыгранных. Оказалось, в его пьесе не было ни души, ни сердца.
Джейн тоже была среди публики, но если и отвлеклась от сцены, то по иной причине.
Ну и диковинный тип! Следя с галереи, она снова и снова возвращалась взглядом к лицу, вдохновившему действо.
За весь спектакль мужчина не шелохнулся даже между актами и выглядел резным изваянием. Лицо застыло бесстрастной маской. Джейн, как и все представители Елизаветинской эпохи, сомневалась в принадлежности темнокожих к человеческому роду. Но чем дольше она смотрела, тем отчетливее различало нечто благородное в этом черном неподвижном лице.
О чем он думал? Видел актера, который являлся карикатурой на него самого и раскрывал перед аудиторией его злодейскую сущность. Так ли он ужасен? Она припомнила его в день у медвежьей ямы: змеиное тело, флюиды опасности, кинжал. И все-таки в его взоре ей почудилась грусть.
После третьего акта ей нужно было вернуться в костюмерную, но она осталась следить. Что у него на уме? И что он собирается делать?
Четвертый акт: уже на первых минутах Эдмунд понял, что попал в беду. Злодеяния Черного пирата громоздились одно на другое, но публика успела к нему привыкнуть и потеряла интерес. Освищут? Нет, зрители пребывали в приподнятом настроении. Понимая, что это первая попытка, они были настроены отнестись к пьесе благожелательно. Иные, когда приблизился конец акта, свистели и стонали при каждом появлении мавра, едва ли не оказывая поддержку. И все же в последнем акте Эдмунд заметил, что больший интерес возбуждал чернокожий, нежели пьеса, – по крайней мере, у некоторых.
Орландо, одиноко сидевший в ложе лордов, всех видел и все понимал, однако не собирался терпеть унижение.
К тому же он заплатил шестипенсовик за вход в ложу лордов – больше, чем любой из них. Он полагал, что будет побогаче всякого, кто пришел в этот театр. Но он заплатил, лелея в сердце надежду увидеть себя героем.
Не приходилось сомневаться, что главным персонажем сей пьесы был он сам. Едва прибыв, он удовлетворенно обнаружил, что на него показывают пальцем, услышал шепот и гул. Первая сцена утвердила его в этом чувстве. Черный Мавр был выведен как капитан корабля и явно имел некоторый вес. Орландо считал, что пьес о себе удостаивались только короли и герои. «Но раз я в этой пьесе главный, – подумал он, – то лучше мне будет высунуться – пускай узнают меня и узреют мое лицо».
Ко второму акту он кое-что заподозрил, а к третьему – уверился. Он видел очень мало пьес, но этот Черный пират был, безусловно, злодеем. По ходу четвертого акта Орландо начал негодовать, затем пришел в ярость. Да слышал ли этот ряженый буканьер грохот пушек? Изведал ли шторм, смотрел ли смерти в лицо? Может, утихомиривал взбунтовавшуюся команду? Сумел бы он провести корабль сквозь бурю, когда тебя захлестывает валом волн, или хладнокровно убить человека, пока тот не управился первым, – да хоть представить, какое это блаженство – прибыть после шестинедельного плавания в африканский порт и окунуться в жаркую и страстную красоту? И в силу простодушия лишь он, мореплаватель-мавр, единственный среди публики рассмотрел всю вульгарность убогой пьесы Мередита.