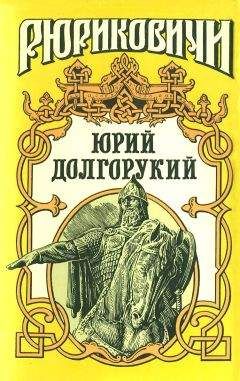- Никого я не подстрекал, - понуро сказал Ростислав, хотя и не должен был говорить, раз поставили его перед столом и не пригласили разделить трапезу, унизили до предела. - И не молвил ничего и никому, лишь слушал. Ибо что можно сказать этим никчёмным людям?
И провёл рукой широко, охватывая всех, кто был за столом, так что и Изяслав не удержался, проследил за рукой Ростислава, на кого она указывала, однако это были все верные люди: четыре Николы, Войтишич, игумен Анания, Петрило, тысяцкий Лазарь, отец Иоанн, который выдержал лишения суздальского похода и теперь молча кивал головой на каждое слово своего князя.
- Оскорбляешь не одного меня, но и моих верных людей, брат мой и сын, - по-прежнему мягко сказал Изяслав. - Но нет вражды в сердце моём, поэтому и молвлю тебе: иди себе к отцу своему, поелику с нами жить не можешь. Пошёл прочь! И не возвращайся никогда.
- Сыновья неразумного и дети неславного, они были изгнаны из края, пробормотал отец Иоанн.
А Ростислава тотчас же окружили отроки Изяслава с обнажёнными мечами и молча показали, чтобы возвращался в лодку. Лодка была уже либо подменена, либо дочиста ободрана, потому что ни ковров, ни медных скамеек, ни красных весел не увидел Ростислав; не увидел он и суздальского стяга над шатром, - толкнули к нему в лодку стяговика и двух отроков без ничего, уже и без оружия, оттолкнули лодку от берега, и те же самые гребцы, которые переправили суздальцев на остров, погнали назад против течения, держась у самого киевского берега, где уже собрано было множество люду, который со свистом, криком и смехом провожал суздальского князя в позорное, бесславное изгнание.
Ростислав ещё надеялся на свою дружину, которая должна была защитить его от бесчестья. Но, взглянув назад, ужаснулся. Дружину его разметали, расстреляли лучники, укрывшиеся на высоких кручах, уже не железный суздальский орех красовался на берегу - метались обезумевшие всадники в поисках выхода, бегства, спасения, но находили они лишь летящие стрелы для себя или своих коней, находили смерть, раны, гибель.
Князь закрыл глаза. Если бы он умел, заплакал бы, но не передан ему в наследство этот благословенный дар, которым отличались многие князья того времени.
Лишь далеко от Киева Ростислава с его людьми выпустили на берег. И то ли там, то ли где-то дальше неведомо кто препроводил ему двух коней, чтобы у него было на чём добраться хотя бы до родича своего Святослава Ольговича в Новгород-Северск, а уж оттуда без передышки, в гневной поспешности - к князю Юрию в Суздаль.
Ко всему этому можно добавить ещё то, что кони, неведомо кем препровождённые для Ростислава на тот берег Днепра, принадлежали Дулебу. Но об этом никто не знал: ни Дулеб, ни князь Ростислав. Ибо что такое кони?
Для киевлян же, которые свистом и криками гнали вдоль берега суздальского князя, был дан обед на торговищах, где раздавали серебро и золото, сердца старых и малых были завоёваны и покорены Изяславом на какое-то время; в обильной и весёлой трапезе, казалось, утонули все воспоминания о суздальцах, и так бы оно и было, если бы это был не Долгорукий. Потому что этого не могли забыть даже те, кто никогда этого изгнания не видел.
Уже на следующий день по Киеву поползли слухи, что теперь Долгорукий непременно придёт - недолго и ждать. Он придёт, чтобы объединить землю, так бессмысленно разъединённую, завершить начатое дедами и прадедами, довести до конца, ибо получилось почему-то так, что люди живут в том же самом доме, а в мыслях они разъединены и отдалены друг от друга, не местом, и не столько местом, сколько сердцем.
Опозоренные суздальцы - коварно побитые, и разоружённые, и закованные в железо, ограбленные, ободранные - ждали князя Юрия, чтобы он освободил их из темниц, куда были брошены все, кого не убили на днепровском берегу, когда дружина попыталась было защитить своего князя от бесчестия.
А Дулеб и Иваница? Люди независимые, свободные во всём, самой судьбой поставленные между враждующими сторонами, они, казалось, могли бы после всего выйти незамеченными из Киева, чтобы никогда больше не возвращаться туда, держась подальше от власти и стычек, неминуемо сопровождающих княжение.
Быть может, они не выдержали бы в забитой досками хижине, куда поселила их Ойка, если бы не привыкли друг к другу за многие годы совместных странствий. Потому что два человека, брошенные в тесноту и лишённые свободы таким, хотя и не принудительным, но довольно неприятным образом, могли бы возненавидеть друг друга, опостылеть друг другу уже через три дня, и закончилось бы всё тем, что вскоре бежал бы один из них или убежали бы оба куда глаза глядят.
С ними этого не случилось.
Да, собственно, куда бежать после всего, что произошло? Держала их здесь Ойка. Один, то есть Иваница, знал это наверняка и не делал тайны из своей страсти, которая овладевала им всё сильнее и яростнее. Дулеб не допускал мысли о том, что между ним и этой диковатой девушкой могло бы произойти что-нибудь важное, но подсознательно он был точно в таком же состоянии, как и его младший товарищ; кроме того, сам себя успокаивал, что сидит в этой нищенской хижине из высших побуждений, не просто прячется здесь, а страдает за общее с Долгоруким дело. А дело это ему было ведомо: князь вознамерился объединить то, что до сих пор было так бессмысленно разъединено: землю, народ, силу.
Несколько первых дней они напрасно ждали Ойку. Она приходила ночью, выбирала пору, когда оба крепко спали. Беззвучно проникала в хижину, ставила им еду и питье и точно так же беззвучно исчезала, словно дух святой.
Потом, когда они уже вовсе утратили надежду её увидеть, пришла днём. Была без своего козьего меха, в одной белой сорочке, под которой свободно ходило молодое, упругое её тело. Снова увидели они её сросшиеся чёрные брови, синие глаза под бровями, тёмное золото веснушек на носу и на щеках - нигде не встретишь такого лица. Исподлобья молча смотрела на них своими лучистыми глазами.
- Долго тут сидеть будем? - набросился на неё Иваница, будто девушка завела их сюда обманом, а не спасла от беды.
- Сидишь, ну и сиди, - засмеялась Ойка.
- Вот уж! По нужде и то украдкой в кусты ползёшь, словно уж. Разве это жизнь?
- А ты не ползай!
- Дулеб заставляет. Он старше и боязливее.
- Может, осмотрительнее?
- А тебе что? Защищать хочется лекаря?
- Разве не заметил: обоих защитила.
- Хвалишься? - пробормотал Иваница. - Взял бы я тебя, как берут таких девчат!
Она сразу же стала серьёзней, отвернулась от Иваницы, промолвив с угрозой в голосе:
- Ещё не подпустила ни одного мужчину. И не подпущу!
- Вот уж! Захотел бы - подпустила бы!
- Видал?! - подскочила к нему Ойка, доставая неизвестно откуда короткий острый нож.
Дулеб решил вмешаться в перепалку, ибо эти двое в своей горячности могли зайти слишком далеко.
- Мы благодарны тебе, Ойка, - сказал он примирительно. - Ты не просто золотая девушка. Ты для нас словно божья заступница в Киеве. Киев чужд и враждебен нам, мы пришли сюда, и никто нас не ждал, никому мы не были нужны, а вот нашлась добрая душа…
Ойка отошла к двери, спрятала нож, насупленно взглянула на Иваницу, на Дулеба.
- Я не добрая, - сказала жёстко. - Я - злая.
- Неправда, - возразил Дулеб. - Зачем на себя наговариваешь? Сделала для нас так много. Не испугалась высочайшей силы в Киеве, дала убежище кому? Кто мы для тебя? Не спишь ночей, кормишь нас, будто малых детей.
- Это куриный корм, - засмеялась Ойка.
- Куриный? - В этой девушке перемены наступали так неожиданно, что он не успевал удивляться. Только что сверкала перед глазами ножом и уже шутит, то ли хочет смягчить своё поведение, отношение к Иванице, то ли ещё больше досадить парню. - Говоришь - куриный харч, а носишь нам мёд и кашу, и не только пшённую, но и рисовую, будто князьям, носишь пиво и мясо. Мало кто в Киеве может так есть, как мы тут лежа.
- Угадал, лекарь. В Киеве голодно становится с каждым днём и будет ещё голоднее, потому что всё вымерзло зимой, теперь ветры выдувают всё, что посеяно в полях. Отовсюду люд бежит в Киев, ищут здесь еду, а разве она в Киеве растёт? На княжеской Горе не пашут и не сеют, только жнут да жрут. Вас же кормить могу лишь благодаря курам Войтишича-воеводы, потому что для него да для игумена Анании откармливаю кур весь год, и едят эти куры, словно игумены или митрополит. Даю курам ячмень варёный и пшено сарацинское попеременно: раз в пиве, раз в молоке. Смешиваю его в мисочках с мёдом. Днём в жбанчики перед каждой курицей наливаю крепкого пива, чтобы куры напивались и не двигались, потому что ежели много двигаются, то худеют. Ещё для неподвижности каждая курица помещена в узенькую деревянную клеточку. Спереди у курицы стоит мисочка для корма и жбанчик для питья, а с другой стороны вычищаю помет. Повернуться курица не может. Ночью подливаю свежей воды. В курятнике всю ночь горят свечи, чтобы птица не спала и не забывала про корм.