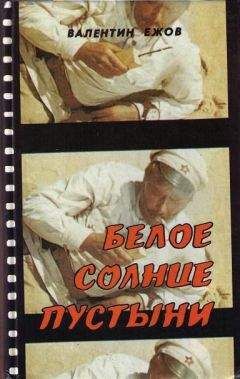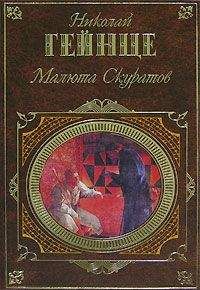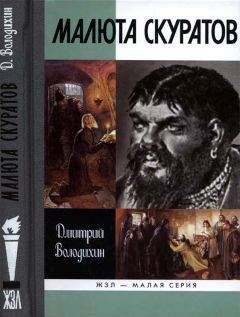— Помолитесь за Малюту Скуратова, — ответил Мак¬сим.
Хозяйка в страхе перекрестилась. Максим тронул коня, поскакал дальше.
— Вернись, родимый, послушай мово слова! — голос женщины дрожал. — Не сдобровать тебе ночью на этой дороге!
Буян прыгал вокруг коня и весело смотрел на Максима.
На поляне пылали костры, вокруг которых сидели разбойники Ванюхи Перстня. Рядом стояли винные бочки с выбитыми днами. Чарки и берестяные черпала ходили из рук в руки. Ограбив обоз с вином, они пили уже второй день. Многие уже еле держались на ногах.
— Эх, — говорил один, — что-то с нашим дедушкой теперь?
— Вестимо что! — отвечал другой. — Рвут его с дыбов!
— Все одно не выдаст старый черт, хоть на клочья разорви.
— А атаман-то хорош! Сам небось цел, а старика-то выдал!
— Да разве это атаман, чтобы своих даром губить из-за какого-то князя!
— Да они с князем-то в дружбе!
— А что, может; он нарочно выдал Коршуна! Глухой ропот пробежал меж опьяненных разбойников.
— Долой Перстня! На осину его!
— На осину! На осину!
— Пусть князь над нами верховодит! А не согласен — и князя на осину!
— Хотим князя!
— Где князь?
— Князь! — кричали голоса. — Тебе зовут, выходи!
В избушке князь и Перстень прислушивались к этим выкрикам.
— Напились, вражьи дети! Теперь их сам черт не уймет, — сказал Перстень. — Нечего делать, князь, выйди к ним. Ввалятся в курень, хуже будет!
— Добро же! — сказал князь, выходя из избушки. Перстень вышел следом.
— Ага! — закричали разбойники. — Вылез!
— На осину его!
— Что вы, братцы, — сказал Перстень. — Чего вы горла-то дерете? Идите, проспитесь!
— Ты что нам указываешь! — захрипел один. — Ты больше нам не атаман!
— Дураки! — сказал Перстень. — Да разве я держусь вашего атаманства? Поставьте над собой кого знаете, у вот вам атаманский чекан! Эка честь!
Громкие крики заглушили голос Перстня.
— Смотрите, смотрите! — раздалось в толпе. — Опричника поймали!.. Опричника ведут!
Из глубины леса несколько людей вели с собой связанного Максима. Один разбойник стал петь «Лапушки». Рыжий песенник схватил балалайку. Оба пьяно семенили ногами и, кривляясь, подталкивали Максима к костру.
— Уж коли эти пустились, — сказал Перстень Серебряному, — они не просто убьют опричника, а замучат медленною смертью, я знаю обоих.
Максима подвели к костру. Рыжий песенник схватил его за ворот.
— Развяжите мне руки! — сказал Максим. — Не могу перекреститься!
Кривоногий мужик — Решето — ударом ножа разрезал веревки.
— Крестись, да недолго!
Максим помолился, и рыжий стал привязывать его к жердям.
Тут Серебряный выступил вперед.
— Подай мне атаманский чекан! — сказал он Перстню и подошел прямо к рыжему песеннику.
. — Отвязывай опричника! — сказал он.
— Да ты что? — удивился рыжий. — За него что ль стоишь? Смотри, у самого крепка ль голова?
— Не рассуждай, когда я приказываю! — вскричал князь.
И, взмахнув чеканом, он разрубил ему череп. Рыжий повадился, не пикнув.
— Отвязывай! Ты! — приказал князь Решету, подняв чекан над его головой.
Решето взглянул на князя и поспешил отвязать Максима.
— Сохрани вас Бог тронуть его хоть пальцем.
Твердый голос Серебряного и неожиданная решительность сильно подействовали на разбойников; Из толпы донесся негромкий возглас:
— Истинно атаман!
Трудно было бы положение Серебряного. Бог знает, куда бы еще качнуло пьяную орду, если бы не случилось еще одно событие. К костру подвели связанного детину в полосатом кафтане.
— Да это татарин! — закричала толпа. — Ай да Митька!
— Татарин, — повторил Митька, — ядреный!.. Насилу справился.
— Да где ты его повязал?
— А на рязанской дороге. — Митька бросил на землю копье, саадак и копье пленного. — Там их прорва.
— Иди ты! — сказал кто-то из толпы.
— Сяло спалили… церкву ограбили. — Митька развязал мешок и вынул кусок ризы, богатую дарохранительницу, две-три панагии да золотой крест. — Во! У няво отнял.
— Все дерут, окаянные! — закричала толпа. — Да как их, проклятых земля держит!
Серебряный воспользовался негодованием разбойников.
Оттуда неслось громкое ржанье коней, визг и крики давимых людей.
Серебряный поднял саблю, и две сотни разбойников, дружно взревев, бросились на врагов, скрылись в ночи, за стеной огня.
Теснимые с одной стороны пожаром, с другой — дружиной Серебряного, враги не успели опомниться и кинулись к топким берегам речки, где многие утонули. Другие погибли в огне или задохлись в дыму. Испуганные табуны с самого начала бросились на стан, переломали кибитки и привели татар в такое смятение, что они давили друг друга. Одна часть успела прорваться через огонь и рассеялась в беспорядке по степи. Другая, собранная с трудом самим ширинским мурзою Шихма-том, переплыла через речку и ускакала в луга.
Ранним утром Серебряный и Максим объезжали поле битвы. Татары были разбиты наголову, прижатые к реке, к болоту. Их тела, раздавленные собственными конями, порубленные разбойниками, густо устилали помятую траву. Из разбойников же убито было немного. После битвы все сидели в стороне у костра. Негромкая удалая песня доносилась оттуда.
— А славно мы бились, правда, Никита Романыч? — говорил счастливый и возбужденный Максим, придерживая коня.
— Славно, славно, Максим! Только нельзя, как ты, очертя голову в сечу бросаться! Вон вся рубаха в крови.
— То вражья кровь! — Максим весело посмотрел на свою рубаху. — А на мне и царапины нет — твой крест сберег меня!
Едва он это промолвил, как притаившийся в камышах раненый татарин выполз на берег, натянул лук и пустил стрелу в Максима.
Угодила стрела в грудь Максима, под самое сердце. Закачался Максим на седле, ухватился за конскую гриву. Поволок его конь по чисту полю.
Серебряный догнал его коня, поймал за узду, спрыгнул на землю и высвободил Максима из стремени.
— Максим, Максим! — позвал он, опустившись на колени и приподнимая голову юноши. — Открой же очи, Максим!
Максим открыл затуманенные глаза.
— Прости, названный брат мой… Жаль, мало мы побыли вместе. Отвези матери последний поклон… Скажи, что я умер, ее поминая.
— Скажу, Максим! Все скажу, брат мой! — прижал губы к его челу Серебряный, — Может, есть у тебя еще кто на сердце, скажи, не стыдись.
— Никого у меня больше нет… Кроме родины моей, святой Руси! Подними мне голову, дай последний раз взглянуть окрест.
Серебряный приподнял Максима. Тот обвел очами поле, озаренное поднимающимся солнцем, прошептал:
— Как хочется жить… Господи, прими мою душу! — и глаза его навсегда закрылись.
Государева мамка Онуфревна сидела на скамье, нагнувшись над клюкой, и смотрела на всех безжизненными глазами..
— Князь, а с ворами повелся! — кривил губы Басманов. — С висельниками! Разбойничий воевода.
Иван Васильевич перебирал четки..
— Околдовал он их, что ли? Додумался перешибить ширинского мурзу Шихмата! Что скажешь на это? — спросил он Годунова.
— Без них, пожалуй, татары на самую бы Рязань пошли, — отвечал Годунов осторожно. — Вот кабы не ждать их в гости и ударить бы на Крым всеми полками разом!
— Опять за свое! — перебил Иоанн. — Мои враги не одни татары. Займись лучше своим литовским послом! — добавил он раздраженно.
— Государь, — сказал Годунов, сделав над собой усилие. — Может, тебе Никиту Серебряного вписать в опричнину? Таких-то слуг бы тебе!
Царь положил голову на плечо Годунова, провожая его к двери, проговорил без своей обычной насмешливости:
— Доставь его в Слободу. А я увижу, что с ним делать, казнить или миловать. Больно много за ним вины!
— Да полно тебе вины-то его высчитывать! — сказала сердито Онуфревна. — Вместо чтоб пожаловать его, что он басурманов разбил, церковь Христову отстоял!
— Молчи, старуха! — сказал беззлобно Иоанн. — Не твое бабье дело указывать мне! Оставь-ка нас лучше одних, с Федорой.
Безжизненные глаза мамки вспыхнули.
— Тьфу, страмник! Еретик бессовестный! — старуха застучала клюкою, уходя.
Царь схватил Басманова за душегрейку, приблизил к себе.
— Говори, Федора, чем мне Серебряного пожаловать?
— Опальника-то твоего? — сказал Басманов. — Да чем же, коли не виселицей?
— Больно он хорошо татар рубит, — похвалил царь.
— Вот-вот! — с обидой посмотрел на царя Басманов. — Их-то ты всех жалуешь! И Годунова, и Малюту, а теперь и Серебряного. А мне от тебя хоть бы какую милость. Спасибо — и то не услышишь. — Он решил поиграть. — Надежа — государь! Что ж, коли больше не люб я тебе, отпусти меня совсем!
Царь помолчал, понял его игру и принял.