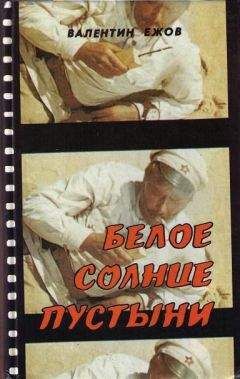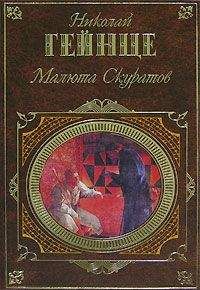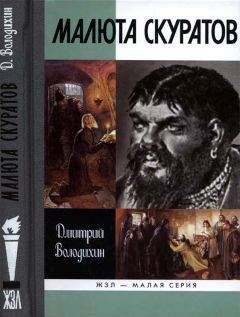— Спасибо тебе, молодец! — сказал Морозов парню. — Спасибо, что хочешь за правду постоять. А я уж тебя своей милостью не оставлю, отблагодарю.
Морозов протянул Митьке свою саблю.
— Не, — отказался от сабли Митька. — Мне бы дубину.
— Дать ему оглоблю, — сказал царь, заранее потешаясь ожидающим его зрелищем. — А ты бейся саблей, — разрешил он Хомяку.
— Ну ты! Становись, что ли! — произнес Митька решительно.
— Я те научу нявест насильничать!
Митька поднял над головой оглоблю и начал крутить ее, подступал к Хомяку скоком. Тщетно Хомяк старался улучить мгновение, чтобы достать Митьку саблей. Ему оставалось только поспешно сторониться или увертываться от оглобли.
— Я те научу нявест насильничать! — раз от разу повторял Митька.
Вдруг раздался глухой удар, и Хомяк, пораженный в бок, отлетел на несколько сажен и грянул замертво оземь, раскинувши руки.
Площадь огласилась радостным криком.
В общей суматохе Перстень подобрался к Митьке и, дернувшего за полу, сказал шепотом:
— Иди, дурень, за мной! Уноси свою голову!
И оба исчезли в толпе.
— Боярин Морозов, — сказал торжественно Иоанн, вставая со своего места. — Ты Божьим судом очистился предо мною. Не уезжай из Слободы до моего приказа. Афоня, — царь повернулся к Вяземскому. — Тебе ведомо, что я твердо держусь моего слова. Боец твой не устоял, Афоня!
— Что ж, — ответил Вяземский, — вели мне голову рубить, государь!
— Только голову рубить? — странно улыбаясь, произнес царь. — А не мало ли? Это что? — он показал ладанку, страшно глядя в очи Вяземского. — Раб лукавый! Ты в смрадном сердце своем аки аспид задумал погубить меня, чернокнижием хотел извести, раб лукавый!
На лицах окружающих проявился ужас. Один Малюта смотрел безучастно. Лицо Басманова выражало злобное торжество.
Вяземский как-то отрешенно посмотрел на царя, сказал спокойно:
— Надежа православный царь, то все неправда, а правда одна — не по любви я тебе служил и честь свою боярскую поганил, а с горя-горького. А жизнь мне давно опротивела.
Вяземский отвернулся.
— Отведите его! — сказал царь. — Я положу ему казнь по заслугам его. А колдуна отыскать, привести в Слободу и допросить пристрастно! Велика злоба дьявола, князя мира сего, — продолжал Иоанн, подняв очи к небу. — Он, подобно льву рыкающему, ходит вокруг, ищуще пожрать мя, и даже в синклите моем находит усердных слуг себе. Но я уповаю на милость Божию и, с помощью Господа, не дам укорениться измене на Руси.
Иоанн сошел с помоста и, сев на коня, отправился ко дворцу, окруженный безмолвной толпою опричников. Малюта подошел к Вяземскому с веревкой в руках.
— Не взыщи, князь! — сказал он с усмешкой, скручивая ему руки назад. — Наше дело холопское!
В царской опочивальне, кроме постели с голыми досками, на которой царь усмирял плоть, была еще и другая постель, устланная мягкими мехами и пуховиками.
Сейчас царь возлежал на ней, ласково поглядывая на своих любимцев. Здесь были все, кроме Бориса Годунова. Остановил взор на Грязном, который явно мучался с великого перебора.
— Подыхаешь, Вася? — усмехнулся царь. — Кравчий, подать ему братину романеи, аль венгерского!
Федор Басманов подошел к ставцу, налил огромную братину вина. Взял ее обеими руками и, поклонившись, подал Грязному. Тот, поклонившись царю, одним духом опорожнил полуведерную братину, перевел дыхание.
— От нынешнего дни будешь пить токмо с моего дозволения, — сказал ему царь.
Грязной в испуге выпучил глаза.
— Воля твоя, государь, — прошептал он. — Лучше вели казнить.
Царь засмеялся, погрозил ему пальцем. Начал новую речь:
— Помню, встретил я тут, во время объезда по моим весям, потешных людишек. Медведь с ними был. Уж так ловко плясал, что я со смеху покатился. А потом окажись в той медвежьей-то шкуре мужик! — Царь пристально посмотрел на Федора Басманова. — А вот ты, Федя, мог бы в медвежьей шкуре сплясать, меня потешить?
Федор не без дерзости взглянул в очи царя.
— В чем я, государь, для тебя не плясал! Как только не потешал. Да вот ты-то совсем не желаешь меня пожаловать.
— А чем же тебе пожаловать, Федя?
— А хоша бы оружничным своим заместо Афоньки Вяземского.
— Оружничий должность высокая, Федя.
— А я что ль не достоин, государь?
— Отчего же. Может, ты и поболе чего достоин.
Грязной и другие опричники с ревностью смотрели на Басманова. В это время дверь открылась, и в опочивальне появился Малюта.
— Войди, Лукьяныч! — сказал приветливо царь. — С какой вестью тебя Бог принес?
Выражение лица Малюты было таинственно, и в нем проглядывала злобная радость. Переглянувшись с царем и покосившись на Федора Басманова, он стал креститься на образа.
— Откуда ты? — спросил Иоанн, подмигнув неприметно Скуратову.
— Из тюрьмы, государь, колдуна пытал.
— Ну, что же? — спросил царь и бросил беглый взгляд на Басманова.
— Бормотал поначалу, не разобрать что. А когда стали мы ему вертлюги ломать, сознался: «Езживал, дескать, ко мне не один Вяземский, а и Федор Алексеич Басманов, корень-де взял у меня и носит тот корень на шее. — Басманов побледнел. — А как стали мы прижигать ему подошвы, так и показал он, что хотел тем корнем Федька твое государское здоровье испортить.
Иоанн пристально посмотрел на Федора Басманова, который зашатался под этим взглядом.
— Батюшка-царь! — сказал он. — Охота тебе слушать, что мельник говорит! Кабы я знался с ним, стал бы я на него показывать?
— А вот и увидим. Расстегни-ка свой кафтан, посмотрим, что у тебя на шее?
— Нет у меня ничего кроме креста да образов, государь.
— Расстегни кафтан! — повторил Иван Васильевич.
Басманов судорожно отстегнул верхние пуговицы.
— Изволь, — Басманов шагнул к Иоанну и подал цепь с образами.
Но царь, кроме цепи, успел заметить еще шелковый гайтан на шее Басманова. Полусидевший на постели, он поднялся вперед.
— А это что? — он рванул ворот рубахи и содрал с шеи Басманова гайтан с ладанкой.
— Это, — проговорил Басманов, делая над собой последнее отчаянное усилие, — это, государь… материнское благословение.
— Посмотрим благословение! — царь передал ладанку Грязному. — Распори ее, Васюк!
Грязной распорол ножом оболочку и высыпал что-то на маленький столик у постели царя.
Все с любопытством нагнулись и увидели какие-то корешки, перемешанные с лягушачьими костями.
— Этим благословила тебя мать? — спросил насмешливо царь. — А жабьи кости зачем? — Иоанн наслаждался отчаянием Басманова.
— Про кости я ничего не ведал, государь, видит Бог, не ведал!
Иван Васильевич обратился к Малюте:
— Говоришь, колдун показал — Федька-то затем к нему ездил, чтоб испортить меня?
— Так, государь! — Малюта скривил рот, радуясь беде давнишнего врага своего.
— Ну что ж, Федюша, — сказал с усмешкой царь, — надо и тебя с колдуном оком к оку поставить, а то говорят: царь одних земских пытает, а опричников своих бережет. Отведай же и ты ласковых рук Григория Лукьяныча.
Басманов повалился Иоанну в ноги.
— Солнышко мое красное! — вскричал он. — Светик мой, государь, не губи меня, солнышко мое, месяц ты мой! Соколик, горностаек!.. Вспомни, как я служил тебе, как от воли твоей ни в чем не отказывался!
Иоанн отвернулся.
— Батюшка! — Басманов в отчаянье бросился к своему отцу. — Упроси государя, чтобы даровал жизнь холопу своему! Пусть наденут на меня уж не сарафан, а дурацкое платье! Я рад его царской милости шутом служить! Умоли!
Но отцу Федора были равно чужды и родственное чувство, и сострадание. Он боялся участием к сыну навлечь опалу на самого себя.
— Прочь, — сказал он, отталкивая сына, — прочь, нечестивец! Кто к государю не мыслит, тот мне не сын!
Федор Басманов сокрушенно покрутил головой, зло сказал:
— Поспешил… поспешил от сына отречься, батюшка. Смотри, под пыткой-то мне и на тебя достанет что показать..
— Врет! — упал на колени и старший Басманов. — Не верь ему, государь! Все врет!
Царь усмехнулся, кивнул Малюте:
— Правда, что яблочко от яблони недалеко падает. Займись обоими, Григорий Лукьяныч.
Федор Басманов в отчаянии обвел кругом умоляющим взором, но везде встретил враждебные или устрашенные лица. Он понял, что терять ему более нечего, и к нему возвратилась его решимость.
— Надежа-государь! — сказал он дерзко, тряхнув головою, чтобы оправить свои растрепанные кудри. — Иду я по твоему указу на муку и смерть. Дай же мне сказать тебе последнее спасибо за все твои ласки! А грехи-то у меня с тобой одни! Как поведут казнить меня, я все до одного расскажу перед народом! Пусть он услышит мою исповедь!
Царь покачал головой.
— Эх, Федора, вот и сказалась твоя бабья-то натура. Пошто пугаешь меня убогого, недостойного, многогрешного?