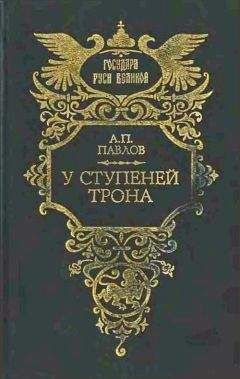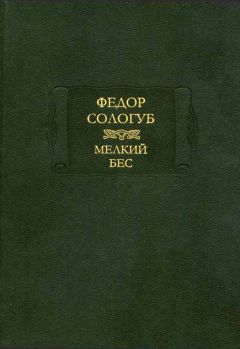Приехав домой, он тотчас же послал за своим адъютантом подполковником Манштейном, и, когда тот явился, они уселись в карету и отправились в Зимний дворец. Фельдмаршал оставил Манштейна в караульной комнате, а сам отправился в покои принцессы, которая уже в это время спала. Миних приказал разбудить любимую статс-даму герцогини Брауншвейгской Юлиану фон Менгден и, когда та, заспанная и встревоженная, вышла к нему, настойчиво стал просить молодую девушку, чтобы она доложила принцессе об его приходе и не теряла времени на праздные расспросы. Юлиана, посвященная в тайные планы Миниха, тотчас же поняла, в чем дело, и задала только один вопрос:
— Вы что же, намерены произвести переворот сегодня?
— Да, — отрывисто ответил фельдмаршал, — медлить долее нельзя; герцог что-то уже подозревает, и, пожалуй, утром, когда он проснется, это подозрение перейдет в уверенность, а стало быть, нужно, чтоб он проснулся не иначе, как нашим пленником.
Любимица принцессы не стала больше спрашивать ни о чем, быстро вернулась в спальню Анны Леопольдовны и тотчас же ее разбудила. Анна Леопольдовна вышла к фельдмаршалу, успев только накинуть пудермантель, и, здороваясь с Минихом, быстро спросила:
— Разве все уже готово?
— Да, ваше высочество.
— Значит, вы верите в удачу дела?
— Верю, если не будем медлить.
— В таком случае да поможет вам Бог!
Почти в ту же самую минуту вошли офицеры Преображенского полка, бывшие в дворцовом карауле и предуведомленные Манштейном. Среди них был и Милошев, юное лицо которого было теперь серьезно и даже сурово.
— Господа, — обратилась к ним Анна Леопольдовна, — вы присягали императору и должны защищать его драгоценную особу. Герцог курляндский не только забыл, что он представляет только регента Российской империи, но даже, как до меня дошли слухи, намерен свергнуть императора, а меня и мужа заточить в крепостях. Я бы не поверила этому, если б не видела ежеминутных оскорблений, которые наносит и мне, и моему супругу самовластие регента. Ждать же того, чтоб ему удалось совершить этот преступный замысел, было бы слишком безумно, и потому я решилась спасти и своего сына, и себя самое от его происков. Я поручила фельдмаршалу арестовать сегодня герцога Курляндского и надеюсь, что вы, верные своему долгу и присяге, данной вами моему сыну, поможете графу Миниху в этом и будете повиноваться ему.
— Вы напрасно обижаете нас, ваше высочество, — пылко отозвался за всех Милошев, — обращаясь к нам с просьбой; достаточно одного вашего приказания — и мы с готовностью сделаем все, что угодно матери нашего императора.
Принцесса улыбнулась светлой улыбкой, обняла каждого из офицеров, совершенно растаявших от этой ласки, и проговорила взволнованным голосом:
— Я никогда не забуду вашей доброты и вашей услуги в эту трудную для меня минуту.
Все офицеры вышли из комнаты, тотчас же созвали всех солдат, бывших в карауле, поставили их под ружье и объявили им, что получили приказ правительницы арестовать регента. Ненависть к Бирону была так сильна, что солдаты искренне обрадовались этому приказанию, и не прошло и нескольких минут, как отряд преображенцев в количестве восьмидесяти человек, предводительствуемый Минихом, направился в сторону Летнего сада.
Караулы, стоявшие у ворот сада, несмотря на то что самим герцогом был отдан строгий приказ никого не пропускать во дворец после того, как он удалится в свои покои, пропустили беспрепятственно маленький отряд, мерным шагом подвигавшийся к Летнему дворцу. Мало того, они тотчас же присоединились к этому отряду, и, когда Миних с солдатами подошел почти к стенам дворца, где спокойным сном почивал всесильный регент, столько лет державший в страхе и трепете всю Россию, в его маленьком войске было уже не восемьдесят человек, а ровно вдвое.
— Ну, сударь, — обратился фельдмаршал к своему адъютанту, когда они остановились невдалеке от подъезда, — ступайте в покои регента и захватите его живым или мертвым — для меня это все равно.
Манштейн взял с собою только двадцать человек и тихо пробрался коридорами Летнего дворца до апартаментов герцога Курляндского. Всюду царила мертвая тишина, слуги спали совершенно безмятежно, часовые, зная о том, зачем пришли Манштейн и сопровождающие его солдаты, сделали вид, что они дремлют, и адъютанту графа Миниха не стоило никакого труда добраться до спальни регента. Подойдя к кровати, на которой спали Бирон и его супруга, он толкнул регента, который тотчас же открыл глаза и испуганно вскрикнул, увидев перед собою лицо адъютанта Миниха.
— Что вам нужно, сударь? — вскричал он, быстро соскакивая с постели и стараясь в потемках отыскать свою шпагу.
— Я пришел арестовать вас по приказанию правительницы, — отозвался Манштейн, подбегая к нему и схватывая его обеими руками с такой силой, что герцог даже застонал от боли.
У Бирона перехватило дыхание, страх подкосил ему ноги, и он отчаянным криком огласил комнату, как бы призывая на помощь. Но помощь не могла появиться. Привлеченные его криком, вбежали гвардейцы, немного отставшие от Манштейна, и как раз вовремя, так как герцог успел освободиться нечеловеческим усилием от стиснувших его рук Манштейна. Совершенно обезумев, регент, как бы позабыв, что ему не сладить с целой толпой вооруженных людей, стал отбиваться от них кулаками, нанося удары то одному, то другому из приближавшихся к нему. Солдат это разозлило, и на Бирона посыпались удары прикладов, изнемогая от которых он тяжело рухнул на землю.
Для Бирона было все кончено. Fro тотчас же связали по рукам и ногам, заткнули рот платком, хотя уже из его горла не вырывалось не только крика, но даже стона, и отнесли в карету фельдмаршала, в которой и отвезли в Зимний дворец.
Когда карета с арестованным герцогом укатила, громыхая колесами, Миних поглядел ей вслед и, качая головой, промолвил:
— Вот, ваша светлость, мне и пришлось совершить важное дело ночью.
Нечего и говорить, что, когда наутро разнеслась весть об аресте ненавистного всем Бирона, когда по петербургским улицам потянулись гвардейские и армейские полки, стягиваясь к Зимнему дворцу, чтобы выслушать от Анны Леопольдовны приказания принести ее сыну, а также теперь и ей, новую присягу на верное подданство, Петербург сразу стряхнул уныние, которое тяготело над ним во все эти последние дни, и на печальных лицах столичных жителей, словно разучившихся уже смеяться, задрожала радостная улыбка, а из их грудей вырвался торжествующий, облегченный вздох.
Точно желая принять участие в этой радости, охватившей жителей приневской столицы, торжествовавших по случаю освобождения от тягостной бироновской тирании, улыбнулась и природа, дарившая в последнее время петербуржцев только печальным ненастьем. Как с улыбнувшегося человеческого лица сбегает порой печальная дымка, прогнанная веселой улыбкой, так сбежали с небосвода тяжелые тучи, затягивавшие его еще сегодняшней ночью. Если бы теперь Баскаков вышел на улицу, если бы теперь он взглянул на столицу, созданную Великим Петром на топях финских болот, если бы теперь он бросил взгляд на оживленные, радостные лица петербуржцев, он бы изменил свое первоначальное мнение об этом городе, встретившем его так сурово и неприветливо, и, пожалуй, не так стал бы рваться назад в Москву.
Впрочем, желание покинуть поскорее Петербург теперь уже ослабло в душе Василия Григорьевича. Он уже оправился от своей тяжелой болезни, уже встал с постели, но еще не выходил на улицу. Старичок доктор, лечивший его, заявил молодому человеку только вчера, что он не выпустит, его раньше, чем через неделю, и Баскакову приходилось волей-неволей подчиниться этому решению и оставаться пленником в той золотой клетке, в которой он очнулся после падения на улице. Но он не жалел об утраченной свободе. Когда его рассудок окончательно прояснился, когда горячечные грезы оставили его, он припомнил все, что произошло с ним со дня его первого появления на берегах Невы, припомнил и с ужасом и удивлением убедился, что ему не только не хочется, но положительно тяжело расстаться с приневской столицей. С ним в последние дни происходило совсем что-то странное: образ молодой княгини, проводившей возле него почти целые дни, пока он был болен, а теперь все реже и реже заглядывавшей в его комнату, буквально не покидал его ни на минуту. Чувство страстной любви незаметно подкралось к нему, незаметно проникло в его сердце и теперь охватило его властным порывом. Он сознавал, что, покинув этот дом, в котором провел почти три недели, он навеки унесет воспоминание о нем, и, странное дело, он теперь досадовал даже на то, что выздоровел, что встал с постели, а не лежит, как прежде, борясь между жизнью и смертью.
Василий Григорьевич уже знал имя своей хозяйки, так заботливо приютившей его и так ласково ухаживавшей за ним. Он прекрасно понимал, что между ним, захудалым представителем хотя и древнего, но бедного рода Баскаковых, и между одной из первых красавиц, богатейшей вдовой князя Трубецкого, не может быть ничего общего. Он сознавал, что его любовь бесцельна, что он даже не имеет права оскорблять этой любовью молодую женщину, отнесшуюся к нему с такою добротой. Он говорил себе, что должен бежать отсюда как можно скорее, что должен потушить в своем сердце пламя безумной любви, но все доводы рассудка были бессильны перед охватившим его чувством.