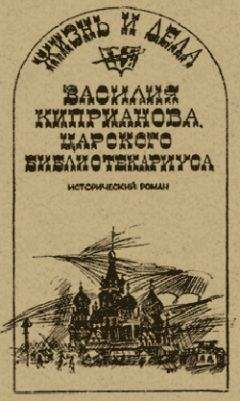Шалун Татьян Татьяныч, еле дожевавший последний кусок, не смог удержаться, чтобы не показать, что и он кое-что знает.
— А царевич Алексей Петрович… Ох, дайте взвару испить, колом в горле кулебяка та стоит… А царевич Алексей Петрович, сказывают, наследства лишен государем…
— Брысь, язычник! — замахал на него вошедший Канунников. — Ступай себе в девичью, пока я тебя не заставил сапоги жрать или что-нибудь похуже!
На улице уже давно раздавались какие-то крики и понукания, ржание лошадей и хлопанье кнута. Фасадные окна с частыми переплетами в доме Канунникова не имели форточек, но в них была вставлена уже не старинная слюда, а немецкое граненое стекло. Все приникли к стеклам, но разглядеть, что случилось на Покровке, было невозможно. Хозяин выслал дворецкого, потом вышел сам.
В топкой луже, которую наделал весенний ручей Рачка, застряла казенная карета. Толпа добровольных советчиков, большей частью в праздничном подпитии, не столь помогала, сколь мешала делу. Кучер и форейтор[114], обозленные, полосовали лошадей, но те, как ни напрягались, вытащить карету не могли.
Тогда из ворот дома Канунникова выбежали молодцеватые офицеры — Малыгин и Щенятьев. Сняв кафтаны, они поручили их заботам бежавших следом девиц и остались в красивых бархатных камзолах и кружевных сорочках.
— Раз-два, взяли! — ухватились они за ободы колес.
— Постойте, государи мои! — произнес кто-то изнутри кареты.
Форейтор поспешил откинуть подножку, и оттуда выбрался очень полный и очень розовый господин в праздничном кунтуше[115] с перламутровыми пуговицами. Толпа замолкла, некоторые начали поспешно ретироваться. Это был обер-фискал, сам гвардии майор господин Ушаков!
— Теперь толкайте, — сказал он, поправляя свое жабо[116].
— Раз-два, взяли! — К офицерам присоединилась толпа доброхотов, и карета мигом была выдернута из хляби.
Весеннее солнце припекало, воздух был свеж, птицы кругом щебетали. Артиллерии констапель Щенятьев вынул из кармана свою флейту и заиграл «камаринскую». А купецкая дочь Наталья Овцына, оголив локти, обняла за шею гардемарина Малыгина и пустилась прямо на траве плясать, да не русскую — контрданс!
Тут оказался к месту шалун Татьян Татьяныч. Прежде чем кто-нибудь успел сообразить, он подскочил к гвардии майору Ушакову, сложил руку крендельком и пригласил его в хоромы, отдохнуть от дорожной конфузии[117], закусить чем бог послал. Поспешно спускался к нежданному гостю и сам Авдей Лукич Канунников.
Пока знатного гостя вели по лестнице, пока юная Софья Канунникова готовила поднос и чарочку, целовальник Маракуев метался в ужасе, готов был под лавку залезть.
— Ох, друже! — зашептал он проходившему вслед за гостем Канунникову. — Сделай милость, дай хоть какой кафтан немецкий переодеть… И борода, как назло, без пошлины, бородовой знак куда-то сынишка забельшил!
— Да ты поезжай себе домой! — посоветовал хозяин.
Но любопытному целовальнику домой не хотелось. Он впялился-таки в старый хозяйский бурмистерский кафтан и сел за столом так, чтобы и поблизости от обер-фискала быть, и глаза ему бородой не мозолить.
Говорили сперва о погоде. Гвардии майор выразился: «Влагорастворение воздухов!» — имея в виду весеннее настроение. Все согласно кивали головами, слуги наполняли кубки и стаканы.
— Сижу я теперь в вашей московской Ратуше, — сказал гвардии майор, налегая на балычок. — Сиречь именуется Коллегиум о коммерции. Сижу я там в самой вашей счетной экспедиции. Государь, изволив отъехать и края чужие, поручил мне разобраться в некоторых курьезных подробностях жизни московской…
Все замолкли, опустив взгляды в тарелки, ничего не жевалось.
Гость, вероятно, заметил, какое произвел впечатление на столпов жизни московской, потому что улыбнулся и сказал:
— Впрочем, что я о делах? Давайте о чем-нибудь приятном, о божественном, что ли, понеже[118] праздник. Как говаривал мой ефрейтор, у которого я служить когда-то начинал, — служба службой, а дружба дружбой.
Но разговор теперь уж никак не клеился. «Чертов этот Татьян Татьяныч! — досадовал Канунников. — Как бы развлечь людей, пошалить, так он и запропал!»
Неожиданно выручил целовальник Маракуев, который стал спрашивать у Киприанова: что, чин библиотекариуса равен ли придворному стряпчему или нет?!
— Господин Киприанов? — переспросил гвардии майор, услышав эту фамилию, и раскрыл свои сонные глазки, чтобы получше того Киприанова разглядеть. — Нет, библиотекарь — пока еще чин не придворный. Хотя других государств монархи жалуют библиотекариуса даже министром за особые заслуги. Стряпчий же, как и стольник, спальник, суть чины придворные, прежнего уклада. Стряпчий за государем со стряпней ходил, то есть с шапкой государевой, с полотенцем, судном. В церковь за ним носил скамеечку, коврик. Ныне все будет по-иному — в Санктпитер бурхе готовится табель о рангах всех чинов воинских, статских и придворных, которые в каком классе чины. По сей табели и библиотекарь образуется в каком-нибудь классе.
Канунников откашлялся спросил:
— А правда ли, ваша милость, сказывают, хотя людишки всё недостоверные… будто по новому этому указу или табели, как вы изволили именовать, даже и купец может дворянское достоинство получить, ежели, конечно, заслуги имеет и перед государем радение выказал?
Гвардии майор побарабанил по столу толстыми пальцами.
— Заслуги каждого из подданных будут в своем месте почтены. Что же касается табели, не скажу точно, ибо я не заседаю в комиссии, которая оную сочиняет. Но мыслю, что для купечества введут, скажем, чин коммерции советника, как оно практикуется ныне в королевствах прусском и свейском.
— А можем ли мы, смиренные, надеждою себя тешить, — не отступали купцы, — что чины оные дадут нам все-таки резоны на дворянство?
Ушаков помолчал, вынул клетчатый платок и обтер себе шею. Все внимательно ожидали его ответа.
— Благошляхетное и благочестное дворянство, — ответил он, — приобретается лишь рождением, происхождением от предков родовитых, для сего заслуг иных не потребно.
Он встал, благодарствуя за хлеб, за соль, за приют. Все двинулись, провожая, и в свою очередь благодарили высокого гостя за оказанную дому честь. Выйдя на крыльцо, обер-фискал взял под локоть Канунникова и указал ему на покровские грязи:
— Ты, Авдей Лукич, мостовые пошлины платишь, поулочные повинности несешь? Сказывают, миллион у тебя достояния. Раскошелился бы ты на каменный мостик через ручей у своих ворот. А то ведь и поссориться нам недолго… Как говорится, милейший, дружба дружбой, а служба службой.
Тут вывернулся Татьян Татьяныч, с оглушительным клохтаньем проскакал вприсядку и закричал швейцару:
— Господин лакей, не видишь, господин обер-фискал отбывать изволит? Доложи господину его кучеру, чтоб господ его лошадей заложили в госпожу его карету!
Гвардии майор рассмеялся, кинул шуту гривенник и уехал восвояси.
Пока отцы кручинились, сыновья и дочери наверху отплясывали менуэт, связавшись платками, — так было интересней. Однако уже и танцы надоели, тогда проворный на забавы Щенятьев предложил играть в жмурки.
— Вас ист дас[119]? — осведомилась Карла Карловна. — Шму-урки?
— Ах, — сказала полуполковница, — это старомодно. В мое время в эту игру уж и чернецы[120] не играли.
Но Щенятьев знал не монастырский, а санктпитербурхский способ игры в жмурки. Для этого рассчитывались на жребий: «Шла кукушка мимо сети, а за нею малы дети, кук-мак, кук-мак, отставляй один кулак…», и так далее. Кому выпало водить, тот дает завязать себе глаза, а прочие целуют его в губы по очереди, он же должен угадать, кто целует. Почтенные дамы заахали, запротестовали, их никто и слушать не стал. Поднялась возня, веселые вопли, горница сразу сделалась тесной, стало ощутимо, что у девушек под платьями каркас из китового уса.
Охотней всех визжала купецкая дочь Наталья Овцына, а угадала она только гардемарина Степана Малыгина, и он, в свою очередь, только ее и угадал.
Бяша отошел к окну. Внизу во дворе видны были стоящие люди. Там канунниковская челядь слушала, как веселятся господа. Бяша непрерывно думал о Максюте — как, же ему помочь? Набраться бы смелости, подойти к Стеше и сказать прямо: «Давайте поговорим о Максиме…»
Он обернулся от прикосновения к локтю. За его спиной стояла Стеша, раскрасневшаяся, с выбившимися из прически локонами, и о чем-то спрашивала.
Стеша спрашивала, не скучно ли ему. Звала зайти к ней наверх, в светелочку, она тетрадку показать желала с песнями новейшего сочинения. Любит ли герр Василий песни? Нравится ли ему, как она, Стеша, поет?
Словно завороженный, он последовал за нею, когда она повела его за руку. Поднялись в светелку, всю обитую голландским голубым полотном. На поставце красовались диковинные иноземные куклы. Кафель пузатой печи украшали пестрые картинки — китаец с китаянкой, медведь с поводырем, царь Соломон на судилище, бабы-фараонки с рыбьими хвостами.