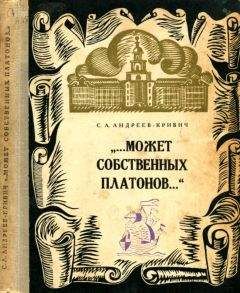Сабельников молчал.
— Ты что же? — спросил его Шубный.
— За такие дела наказание немалое.
— Вот и я так думаю. И по-всякому дело повернуть можно. А как ты да я — мы учителя его, которые грамоте еще наставляли и потом наукам обучали, то нам его и остеречь. Вот и давай совет держать. Потому к тебе и пришел.
— По этому делу?
— Мало ли?
— Нет.
Ни к кому не обращаясь, Сабельников сказал:
— Ищет парень. Человеку в жизни к настоящему его месту приставать следует.
И сказав это, Сабельников задумался. Вот он дьячок местной церкви. И сколько уж лет. Ему теперь пятьдесят шесть. Так, значит, всю жизнь на том и провековал. А ведь когда в подьяческой и певческой школе при Холмогорском архиерейском доме учился, первым учеником был. Ему эти мысли в голову часто и раньше приходили. И когда сам себе говорил он: сыт мол, обут, одет, жена и дети не по миру ходят, — будто успокаивался. Но, однако, ненадолго: червь начинал точить ему сердце, и понимал он, что не только такая, как его, жизнь и бывает…
— Ищет-то он, ищет. Только не сорваться бы ему в искании. Так можно сорваться, что и костей потом не соберешь.
— Все может быть.
— Ты не поддакивай мне, а подумай. Как парню помочь да поостеречь его. Вот это дело, то, что Михайло на исповеди не был, можно повернуть по-всякому.
— По-всякому и можно.
Шубный начинал сердиться.
— Вроде балагуришь. О важном тебе пришел сказать. Беду от Михайлы отвести надо.
— А беды Михайле не будет.
— Это почему же?
— Михайло по весне болел и у исповеди быть не мог. Вовсе не по нерадению случилось это.
— Болел? Что-то не припомню. Какой такой болезнью?
— Обыкновенной.
Шубный понял:
— И значит, ходить не мог?
— Как же это ходить, ежели он как в огне горел?
— По соседству живу, — рассмеялся Шубный.
— Да и я недалеко. Как в Холмогорах я был, где нужно, о Михайлиной болезни и сказал. Делу и конец.
— У тебя. Семен Никитич, сколько душ? Всего семейства-то?
— Сам восьмой. А ты что?
— Просто так. Ежели от должности твоей тебя отрешат, что, думаю, делать будешь?
— Бог не без милости.
— И то.
В прошлом году на исходе зимы собралась в одно из воскресений около деда Луки мишанинская и из соседней Денисовки молодежь, и стали его просить рассказать о царе Петре. Был здесь и Михайло.
Петр три раза бывал на Двине и Белом море. Деду Луке доводилось его видеть. Об этих встречах Лука Леонтьевич Ломоносов любил рассказывать. Особенно охотно вспоминал он об одной встрече с царем.
…Царей у нас до Петра не случалось, — начал дед Лука свой любимый рассказ о том, как еще в первый раз к ним на Двину и Белое море царь Петр приходил. — Видно, недосуг им был. Да и что на нас глядеть? Диковина какая?
Вот и достигла до нас весть: идет к вам царь Петр, русский государь, идет и скоро будет. С чем, думаем, идет царь? Не провинились ли? Не взыщет ли на чем? Цари-то со страхом ходят.
Уж потом узнали. Задумал он об то время свое дело: державу российскую на морях ставить. И приходил он к нам Белого моря смотреть, каково оно есть. Тридцать да еще с лишком годков тому уже.
Море наше Белое одно в то время было, по которому отпуск заморский российский совершался, по нему только корабли чужеземные к земле российской и плыли. Учрежден заморский торг был при Грозном еще царе.
В наших Холмогорах тому управа спервоначалу находилась, а потом, как Архангельский город состроили, там всему торгу место основалось. Царь приплыл от Вологды в июле, на семи стругах царский поезд прибыл, шел царь по Сухоне, Двине, Курополке нашей, мимо Курострова, и к Холмогорам приставал. Повидать его тогда мне не довелось. Рассказывали только мне после. Как царский струг приближился к городу, выстрел был из всех пушек, из тринадцати городовых, и мелкого оружья от обоих полков, что в Холмогорах у нас стояли; также и с государских судов из большого оружья. А как великий государь к пристани приходил, и тогда другой выстрел был из всего оружья и из судов государских. Егда великий государь на пристань выступил, тогда третий выстрел был. Вышед, великий государь изволил шествовать в карете в город Богоявленскими воротами. А бояре, и стольники, и все чиновные люди за великим государем шли пеши. Когда великий государь объявился из Спасских ворот, тогда в соборе звон был во вся. Когда же великий государь шествовал на городок к соборной церкви, тогда преосвященный Афанасий, архиепископ холмогорский и важеский, из соборной церкви на встретение великого государя изыде со святыми иконами и со всем освященным чином в облачении малом.
На завтра 29 июля в субботу великий государь с Холмогор со всеми своими стругами, во всяком благополучном здравии богом храним изволил шествовать к городу Архангельскому, и на отшествии государском стрельба была из большого оружья и обоих полков трикратно. А как мимо посада пошли, тогда звон был по всем церквам во вся колокола.
Ну, опять говорю, не был я в ту пору дома. Ни грома, стало быть, пушечного, ни звона во вся колокола не привелось услышать. И великого государя всея великия и малыя и белыя России самодержца видеть мне не довелось.
А как обратным ходом от Архангельска через Холмогоры шел на Москву в том годе царь, по осени уже то было, лист падал.
Пришел царь на Холмогоры к самой ночи.
Шествовал по Двине от Архангельска со присутствующими и боярами и сержантами и потешными солдатами; великий государь с боярами на малом дощаничке, а прочие на трех вологодских карбасах. С Холмогор великий государь отпустил многих бояр и других, что с ним приходили, на Москву сухим путем на телегах, и в каретах, и в колясках. А сам на утро на малом карбасе не со многими людьми в Вавчугу плыл как раз мимо нас по Курополке. К Бажениным, ради смотрения их пильной мельницы…
Осип и Федор Баженины, двинские посадские люди, далекие потомки Семена Баженина, вышедшего из Новгорода на Двину во времена Грозного, прославились при Петре.
Их отец Андрей Кириллович, родившийся в 1640 году, купец Гостиной сотни в Архангельске, был первым владельцем Вавчуги, названной так по речке, впадающей в Двину ниже Пинеги и вытекающей из восьми озер и болот, залегших между высокими холмами, почти горами, которые исстари назывались «осиновыми городищами» и «прислонами». В приобретенной Андреем Бажениным Вавчужской деревне с давнего времени, еще с XVI века, работала пильная мельница — «растирала», то есть пилила, лес. Сын Андрея Осип в 1680 году перестроил старинную мельницу, она стала действовать силой воды. Подобную же мельницу построил на другом берегу Вавчуги брат Осипа Федор. Братья Баженины растирали на своей мельнице лес и хлебные запасы мололи.
По-новому правившему Россией Петру стало известно о баженинской пильной мельнице. Он поощрил Бажениных и дал им 10 февраля 1693 года жалованную грамоту: «На тех мельницах хлебные запасы молоть и лес растирать и продавать на Холмогорах и у Архангельского города русским людям и иноземцам».
Когда летом 1693 года Петр впервые побывал в Архангельске, он и захотел повидать баженинскую пильную мельницу.
Прошло несколько лет, и Баженины создали в Вавчуге кораблестроительную верфь, вскоре прославившуюся.
…Снарядил я карбасок, — продолжал свой рассказ дед Лука, — и поплыл тоже в Вавчугу. Авось, думаю, царя повидать удастся. Никогда не видал. Каков он? Такой ли, как все люди, или другой?
Пристал я к тому месту, где вода через пильную мельницу идет, а потом ручьем в Двину падает. Поднимаюсь на угор, на котором теперь наковальня большая баженинская стоит. Поменьше там нынешней тогда стояла. Тут прямой путь к палатам Федора Баженина. Прохожу мимо наковальни — двое высоченных парней молот в молот по ней бьют. Железо красное, из огня только, а наковальня, что в землю вросла, гудит и будто под молотами припадает. Парни так и секут. Не иначе для самого царя стараются.
Прошел я мимо наковальни и к дому баженинскому, что на белом тесаном камне поставлен, иду. Тут и случись мужичишко наш куростровский, что службу Бажениным служит. «Здравствуй, — говорю я ему, — земляк, дорогой, на многие лета». — «Здравствуй, коли не шутишь!» — отвечает он мне. «Скажи, — говорю я ему, — нельзя ли как мне на государя нашего Петра Алексеевича, всея Руси, одним хоть глазом поглядеть, сподобиться? Больно уж надобно. Только боюсь: сунусь, а стража топориками изрубит да бояре громов намечут. Пособи — не чужие ведь, земляки». А он как посмотрит на меня, будто ума решился я, и говорит: «С неба ты, что ли, Лука, свалился?» Я и отвечаю: «Нет. Зачем мне с неба валиться? С Курострова приплыл я, а государя своего всякий поглядеть может». — «Приставал ты под угором, чай?» — «Там. Где же иначе». — «И мимо наковальни шел?» — «Шел». — «И ничего тебе на ум не вспало?» — и смеется. «Вспало: вижу, парни, двое, по кузнечному делу ладно справляются. Аж толпа собралась и глазеет. Хорошо, думаю, работают». — «Вот и говорю, что с неба ты свалился», — и опять смеется. Тут осерчал я, за плечо его легонько тронул, а рука в то время у меня тяжелая была, не стар еще был. И говорю ему так: «Ты, милый человек, знаешь, это вот как петухи встренутся, так один на другого, будто ума решились, наскакивают и гогочут, а я тебе не петух, и ты мне как человек человеку отвечай!» А он руку мою снял, тоже не пустяшный малый был, царство ему небесное, и говорит: «Я тебе как человек человеку и отвечаю: прямым путем ты сюда с неба. Мимо государя шел и не признал». — «Как так — не признал? Что ты такое сказал? Креста на мне нет, что ли, государя не признать чтоб? Отец он нам всем!» — «На парней, что молотами стучат, хорошо смотрел?» Тут я и схватился: «Ай, ай, ай! Никак, там царь стоит да на работу и любуется?» — «А работа добрая?» — «Ничего не скажешь, понимаем в этих делах». — «Так вот, Лука, спасай тебя бог: тот, который, молот заведя, по наковальне отмахивает, вон всех выше он, тот царь и будет».