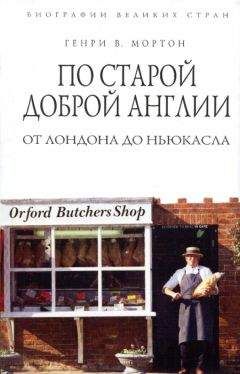Один раз мы слушали игру великого Паганини[13]. Он исполнил несколько восхитительных вариаций, и я была рада видеть, какое удовольствие его виртуозная игра доставила милой Лецен. К сожалению, сэр Джон тоже был там, но даже ему не удалось испортить это чудесное впечатление. Потом мама предложила кузенам небольшое путешествие, и мы отправились на остров Уайт. Все это было бы прекрасно, но мама настояла, чтобы над замком Норрис был поднят королевский штандарт и чтобы был дан салют. И все это вновь пробудило во мне воспоминания и о дяде Уильяме, и об ужасно неловком инциденте на балу.
Одно, однако, было хорошо. Сэр Джон и его семейство не были с нами в замке Норрис. Им принадлежал небольшой дом на острове, носящий название Осборн Лодж. Дом был неподалеку от замка, и мы их там посещали, но какое благо — хоть и маленькое — не оставаться под одной крышей!
Какие это были счастливые дни! Я гуляла с кузенами и ездила верхом и ходила с Дэшем на море. Мой маленький любимец радовался всему, что мы делали с ним вместе. Кузены играли с ним, и он их полюбил. Я уверена, что он предпочитал Александра, который и мне нравился больше — хотя и Эрнст был очень мил. Иногда меня показывали народу. Толпы людей бурно приветствовали меня. В мою честь стреляли пушки, и я видела, какое впечатление моя популярность производила на кузенов.
Мама пристально наблюдала за мной и говорила, что я не должна заноситься из-за того, что раздавался салют и поднимался королевский штандарт.
— Это не в твою честь, но в честь королевской власти, дитя мое. Я заметила, что тогда все это в честь дяди Уильяма. На что она ответила:
— Не будь такой докучливой, Виктория.
Но я любила правду во всем и могла быть очень упрямой, хотя и знала, что маму это раздражает. Мы становились дальше и дальше друг от друга. Я слишком хорошо ее понимала. В те дни я особенно часто думала — любила ли она меня, может быть, непреодолимая страсть к власти и есть ее любовь. В торжественных случаях она всегда стояла впереди меня, как будто это она была наследницей престола, которую хотел видеть народ, хотя они и выкрикивали мое имя и «Боже, благослови маленькую принцессу». Конечно, ей нравилось слышать эти возгласы, потому что они означали, что я популярнее короля. Но я была совершенно уверена, что ей все время хотелось, чтобы приветствовали ее. А я уже тогда понимала, что ее-то как раз и не любили.
Меня любили, потому что я была наследницей престола, будущей королевой; к тому же я была молода, наивна и улыбалась им, словно мне все это нравилось.
Мама, напротив, всегда выглядела очень надменной, будто все окружающие были намного ниже ее, и, естественно, это не могло нравиться.
В тот день, когда я должна была открывать новый пирс, мама неожиданно решила, что я становлюсь слишком тщеславной и меня надо проучить. Мама объявила мэру и городским советникам, что она сама будет открывать пирс, тем самым допустив большую оплошность.
Они были так смущены, что не знали, как реагировать. Наконец мэр пробормотал, что люди пришли посмотреть на маленькую принцессу.
— Они увидят ее, — резко сказала мама. — Но открывать пирс буду я. Приступайте к церемонии. — Мама не всегда поступала мудро. Она не поняла, что люди были недовольны и что подобное поведение только ухудшает их отношение к ней.
А своим заявлением, что мы не останемся на завтрак, который должен был состояться после церемонии открытия, она окончательно испортила впечатление о себе. Мне было мучительно стыдно присутствовать там, поскольку возникло большое замешательство. Да, мама могла быть не только чересчур властной, но и глупой.
Я не писала тогда в дневнике о своих чувствах. Нельзя было допустить, чтобы мама узнала о них. Я часто думала, выводя строчки своим самым красивым почерком, насколько бы мне было легче, если бы я могла писать о том, что думаю и чувствую. Но мне приходилось помнить — мама и Лецен читали каждое слово. Поэтому я писала его как упражнение, давая волю своим чувствам, только когда речь шла о моей любви к опере и удовольствии, полученном мной от посещения кузенов, — все это были темы, которые не могли раздражить маму.
Я испытала еще большее смущение, когда по возвращении в Норрис мы получили письмо от графа Грея, уведомлявшее маму, что салют и поднятие флага имеют место только в присутствии короля и королевы. Все еще обиженная приемом, оказанным ей при открытии пирса, мама была в ярости.
Счастливые дни визита моих кузенов прошли. Им предстояло вернуться домой. Прощаясь с кузенами, я чуть не расплакалась, и, кажется, они тоже.
— Пожалуйста, приезжайте к нам опять, — просила я. Они ответили, что будут с трепетом ждать такого счастья.
Мама благосклонно улыбалась, и на этот раз мы обе были печальны. Кузены были такие любезные, добродушные и всем интересовались. Я записала в своем дневнике: «Нам будет не хватать их за завтраком, за обедом, на прогулках, во время выездов — словом, везде».
Я с нетерпением ожидала писем дяди Леопольда и была в восторге, когда он написал, что в самом скором времени собирался привезти в Англию свою молодую жену Луизу, чтобы познакомить ее с его любимой девочкой. Я была очень счастлива, узнав, что он надеется стать отцом.
— Это то, что ему нужно, — сказала я Лецен. — Это принесет ему счастье. Он слишком долго оплакивал принцессу Шарлотту.
— Я думаю, иногда он наслаждался своей скорбью, — сказала Лецен.
Я не вполне поняла ее, но она не продолжала. Уж не ревновала ли меня Лецен к дяде Леопольду? Мне кажется, тщеславие брало верх над лучшими сторонами моего характера, когда речь шла о ревности, как это было и в случае с моими кузенами. Было так приятно сознавать, что я имела для них такое значение. Но мне не нравилось, когда кто-нибудь критиковал такое совершенство, как дядя Леопольд.
Приближался мой пятнадцатый день рождения, и я надеялась, что тетя Аделаида снова даст бал для меня и что мама на этот раз не испортит его. Через три года мне исполнится восемнадцать, самый важный момент моей жизни.
Мама с каждым днем становилась все более и более сварлива. Она постоянно говорила что-нибудь уничижительное о дяде Уильяме, потому что он никак не умирал, а ведь оставалось только три года. Малейший слух о его болезни приводил ее в восторг. Мне казалось очень нехорошо с такой страстью желать смерти другого человека. Это было своего рода… убийство.
Незадолго до моего дня рождения я получила печальное известие от дяди Леопольда. Его ребенок умер.
Дорогой дядя Леопольд, как должно было быть для него тяжело пережить эту утрату! Он писал мне подробно о своей скорби. Он был в отчаянии. Жизнь была жестока к нему. Этот удар сломил его и Луизу.
Я старалась утешить его, повторяя многие истины, которые он годами внушал мне. Он отвечал мне, что мое письмо принесло ему утешение.
Тетя Аделаида не забыла о моем дне рождения. Она посетила маму и в моем присутствии напомнила нам о нем.
— Мы должны дать еще один бал для молодежи, — сказала она. — Я помню, как тебе понравился тот, что мы устроили в день твоего четырнадцатилетия. Я никогда не забуду, как ты открыла бал с кузеном Георгом. Я увидела воинственное выражение на лице мамы и испугалась.
— Дорогая Аделаида, — ответила она, — это очень мило с вашей стороны, но вы, видимо, забыли, что я в трауре по ребенку моего брата.
— О… я забыла, — смутилась королева.
— Я же помню о таких потерях в моей семье.
— Может быть, — сказала королева, видя мой удрученный вид, — Виктория все же могла бы пойти. Ведь это ее день рождения, и нужно его как-то отметить. Мама подняла брови, и серьги ее задрожали.
— Виктория не может не быть в трауре. Леопольд — ее дядя… ее любимый дядя.
Я никогда не видела королеву в состоянии, настолько близком к раздражению. Лицо ее приняло выражение покорности.
— Ну что же, — сказала она, встала и тотчас же уехала.
— Какая бесчувственность! — воскликнула мама после ухода тети Аделаиды. — У некоторых людей нет никакого чувства к семье.
— Я думаю, ей просто хотелось доставить мне удовольствие.
— Ей следовало знать, что сейчас не время для танцев, и, если у тебя есть вообще какие-то чувства, ты никак не можешь этого желать.
Я молчала — наверно, угрюмо. Я не понимала, какая польза для ребенка дяди Леопольда в том, что я останусь дома в мой день рождения. На следующий день тетя Аделаида написала маме, что, к сожалению, бала не будет, но она непременно заедет в Кенсингтонский дворец утром поздравить меня от себя и от короля.
Тогда мама совершила чудовищный поступок. Она послала королеве записку, где говорилось, что, поскольку она в трауре — и принцесса тоже, — она не принимает посетителей. Я была в ужасе. Я не могла не рассказать об этом Лецен.
— Как мама смеет писать королеве, что она не принимает! Не принимает! Можно подумать, что она сама королева. О Лецен, мне так стыдно! Лецен покачала головой, но маму защищать не стала.