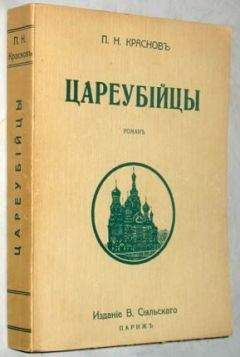— Это говорите вы, Федор Михайлович, и я вас понимаю вполне, но как поймет это все народ?
— Характерной чертой Русского народа является поиск правды, беспокойство о ней… С этого, кажется, мы и начали нашу беседу с вами. И наш народ теперь обеспокоен судьбой тех несчастных, кто страдает от турок.
— Да, — тихо сказала Вера… — Все это ясно… Но как совместить это с тем, что сказано: «Не убий»?.. Там насилие. На него ответить насилием еще большим!.. Вот где, мне кажется, лежит зло войны. Война — это страшный бич.
— Не всегда война бич!.. Иногда война — спасение.
— Как же это может быть?..
Все зависит от цели войны. В нынешнем случае — какая великодушная цель! Освобождение угнетенных!.. Идея войны бескорыстна и свята!
— Ужас!..
— Да, верно — ужас… Но и гроза ужас. Валит деревья, молнией сжигает дома… Но и очищает воздух. Эта война тоже очистит воздух от скопившихся миазмов. Она излечит наши души, прогонит позорную трусость и лень. Эта война укрепит слабых сознанием нашего самопожертвования. Дух всего Русского народа, а с ним и освобожденного славянства, подымется и воспарит от сознания солидарности и общего единения, составляющих то, что мы называем нацией!.. Ведь, сударыня, нет ничего выше сознания исполненного долга!.. А когда притом долг в хорошем святом деле — что выше и лучше этого?
Не того ожидала Вера от писателя Достоевского, «пророка», «провидца», «читавшего в душах людей», самого так много пострадавшего. Она встала и сказала, протягивая руку:
— Благодарю вас… И простите, что обеспокоила и отняла ваше время… Вас, верно, часто так беспокоят… Прощайте.
Достоевский проводил Веру. Он отложил тяжелый тугой крюк входной двери. Когда Вера уже была на лестнице, пронизанной золотыми лучами солнца, игравшими перламутровыми пылинками, Достоевский вышел за Верой на площадку и, осиянный солнцем, сказал глубоко, сильно и проникновенно:
— Помните слова Христа: «Больше сея любве никто же имать, да кто душу свою положит за други своя»… Тут — это… В полной мере-с… В полной-с!..
Вера остановилась. Она одной рукой держалась за перила лестницы и повернулась лицом к писателю. Серебром горели волосы, тонкая бородка шевелилась на груди. Глаза смотрели остро и строго… «Пророк», — подумала Вера.
— Выходит, — с вызовом, гордо вскинув голову, сказала Вера, — жить по Евангелию?..
— Как же иначе-то!.. — твердо сказал Достоевский. — Иного пути нет-с!.. На нем истина!..
Он попятился назад, скрылся в тень. Медленно, шурша клеенкой по каменным плитам, замкнулась дверь. Было слышно, как крепко щелкнул закладываемый крюк.
Точно отгораживался писатель от сумасбродной девицы.
I
Порфирий ехал в действующую армию. Так его и провожали — на воину!.. Графиня Лиля служила в часовне Христа Спасителя на Петербургской стороне напутственный молебен. Даже скептически смотревший на войну отец благословил Порфирия образом, а приехал Порфирий в Кишинев, никакой действующей армии не нашел.
Был март. Стоял мороз, и была колоть. Небо синее, и солнце по-южному яркое, но не греющее. Ледяной ветер шумел в высоких голых деревьях бульвара. Мороз хватал за нос и за уши. Фаэтон то катился по накатанной колее, то погромыхивал и покряхтывал на замерзших колеях недавно здесь бывшей ужасающей грязи. Со двора казарм Житомирского полка неслись крики команды.
— К церемониальному маршу… поротно, на двухвзводные дистанции…
Полк готовился не к войне, но к параду. Люди, несмотря на мороз, в черных мундирах и скатках, в кепи, топтались, покачиваясь, «на месте». Блистали на солнце трехгранные штыки тяжелых ружей Крика, взятых отвесно «па плечо». Молодой офицер, стоя лицом к роте и отбивая носками шаг, кричал звонким голосом:
— Тринадцатая р-р-рота-та… Пр-ря-а-а…
Офицер так долго тянул команду, что Порфирий успел проехать казарму, и уже вдогонку ему донесся мерный хруст ног и веселые звуки марша Радецкого.
«Пожалуй, и правда, — подумал Порфирий, — туда и обратно… Медали такие… Шутники Петербургские!.. Сербам прикажут сидеть смирно, а нас всех вернут обратно. Вот и все, в угоду масонам Англии и Австрии».
Торжественное настроение, бывшее в пути по железной дороге — ехал на войну полковник генерального штаба, — начинало падать.
В гостинице свободных номеров не оказалось. Гостиница была занята под штаб, и расторопный писарь со светлыми пуговицами и алым воротником на черном мундире с писарской вежливостью просил Порфирия «пожаловать» в штабную комнату, где помещаются все господа.
В штабной Порфирий застал обычный кавардак военного постоя — и много знакомых. Гарновский заключил Порфирия в объятия, маленький, худощавый, стройный Паренсов, приятель по недавним Варшавским маневрам, крепко сжал руку Порфирия и, гляди в глаза, спросил:
— А письма от жены и дочери привезли?..
— Привез, привез, Петр Дмитриевич, — сказал Порфирий.
Высокий капитан генерального штаба Лоренц — так представил его Порфирию Гарновский — собрался было застегнуть расстегнутый мундир, да раздумал. Большой и толстый незнакомый полковник, разводивший на блюдечке кармин и синюю прусскую, отложил и сторону кисточку и внимательно посмотрел на приезжего.
— Неужели не встречались?.. Я, кажется, вас знаю. Ну, конечно, встречались… Вы — Разгильдяев, я — Сахановский… Помните, лет пять тому назад под Красным Селом для жалонеров и линейных.
— Да, позвольте… Вы тогда были…
— Худой и строчный… Да… да… Видите, как развезло… Чистый боров, — засмеялся толстяк. — И ничем не остановишь. Не знаю, как и на лошадь взбираться буду.
Сизые струи табачного дыма носились в воздухе. Кроме двух гостиничных постелей стояли еще две походные койки. Посредине комнаты были сдвинуты ломберные столы, и на них разложены карты. По картам розовыми и голубыми красками намечались какие-то районы. Тут же стояли граненые стаканы с чаем, лежали трубки, краски, кисти. В плохо проветренной комнате пахло ночлегом, табаком, сапогами — пахло солдатом.
Вопрос о помещении для Порфирия разрешился просто.
— Ставь свою койку сюда, — кричал Гарновский. — Денщика твоего на довольствие зачислим и живи… Паренсов завтра уезжает в командировку в Румынию. Занимай его место.
— Но позвольте, господа, скажите мне… Все-таки?… — Порфирий одним глазом взглянул на карты. — Где сосредоточивается Дунайская армия?..
— Секрет, — сказал Гарновский.
И сейчас по всем углам комнаты бывшие здесь колонновожатые закричали:
— Секрет! Секрет!!! Секрет!!!
— Ты Левицкого Казимира знаешь?..
— С бородой лопатой, под Кронпринца Фридриха?
— Ну да. Казимира Васильевича?.. — Мы его «воно» прозвали.
— Ну, видал… В Главном Штабе…
— Так вот — его о чем ни спроси — «воно» отвечает: «Секрет»… А он генерал-квартирмейстер армии и заместитель Непокойчицкого, который с Великим Князем находится в Одессе.
— Но я вижу, вы тут расчерчиваете какие-то квартирные районы.
— А помнишь, когда мы были в Академии, Зейферт нас заставлял штрихи тянуть, модели срисовывать… Чтобы занять нас… Нервы после экзаменов успокоить. Вот и здесь Казимир придумал: раздаст нам расчертить районы расположения частей корпуса Радецкого. Мы расчертим.
Говорившего Гарновского перебил Сахановский:
— А «воно» придет и говорит: «Я, знаете, ночь не спал, все передумал. Передвиньте-ка квартирный район на двадцать верст к востоку в том же направлении».
— Но, однако… Где же будем переправляться через Дунай?
— Секрет!
— Секрет!
— Секрет!.. секрет!.. секрет!..
— Да я сам понимаю, что секрет, да не от нас же, кто должен эту переправу подготовить.
— Секрет!.. секрет!.. секрет!..
— А вы спросите жидочков от компании Грегера и Горвица — так они все вам скажут. Вся Румыния полна ими, — сказал капитан Лоренц.
— Ну, хорошо… но война-то, наконец, будет или нет?.. Вот в Петербурге говорят, что мы обратно поедем. Там и медаль такую придумали на Станиславской ленте с надписью: «Туда и обратно».
— Остряки, — сказал Сахановский, — они готовы надо всем смеяться.
— Война, конечно, будет, — серьезно сказал Паренсов. — Как же можно отменить войну? Мобилизация произведена. Сколько десятков тысяч казаков поднято. Они должны были собраться, коней купить — чистое разорение. Их жены пошли батрачками служить. Как же вернуть их домой без подвига, без славы, без награды, без какой-то там добычи? Засмеют дома. Смута по стране пойдет. Чего вернулись? Турок испугались… Чего не бывало никогда… Вам с бабами воевать! Государь все это, конечно, учитывает… Но вот так прямо объявить войну ему что-то или кто-то мешает.
— Ох, уж эта иностранная — весьма странная политика, — проворчал Порфирий. — Что же я тут буду делать?..